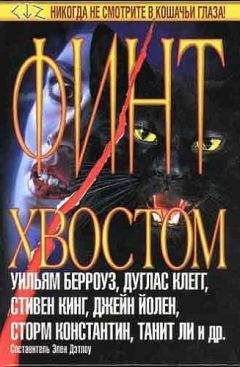Виктор Астафьев - Печальный детектив
И стали они избегать, бояться друг друга. Но как избежишь-то насовсем в таком городке, как Вейск? Здесь жизнь идет по кругу, по тесному. Задолго еще до того, как увидеть друг друга, они чувствовали неизбежность встречи. Внутри Леонида не то чтобы все обрывалось, в нем все скатывалось в одну кучу, в одно место, останавливалось под грудью, в тесном разложье, он еще задаль расплывался в улыбке и, чувствуя ее неуместность и нелепость, не в силах был совладать со своим ртом, убрать улыбку с лица, сомкнуть губы — она была и защитной маской, и оправдательным документом, приклеенным к лицу, словно инвентарная печать, приляпанная ляписом на заду казенных подштанников. Поймав его взгляд, тетя Граня опускала глаза и бочком, бочком проскальзывала мимо, в сером старом железнодорожном берете, с невылинявшей отметкой ключа и молота, в старой железнодорожной шинели, в стоптанных башмаках. Все это, догадывался Леонид, тете Гране отдавали донашивать подружки и товарки, которые из больницы отправлялись туда, где не нужна форменная одежда — туда еще не проложены рельсы.
— Доброе утро! — хоть утром, хоть днем, хоть вечером роняла тетя Граня на ходу.
Сошнин чувствовал, что если б не природная деликатность, тетя Граня не поздоровалась бы с ним вовсе. И всякий раз, пришибленный, как гвоздь, по шляпку вбитый в тротуар, с резиновой улыбкой на лице, он хотел и не мог побежать следом за тетей Граней, и кричать, кричать на весь народ: «Тетя Граня! Прости меня! Прости нас!..»
«Доброе утречко! Здоровеньки булы!» — вместо этого выдавал он шутливо, работая под Тарапуньку со Штепселем, ненавидя себя в те минуты и украинских неунывающих юмористов, всех эстрадных словоблудов, весь юмор, всю сатиру, литературу, слова, службу, свет белый и все на этом свете…
Он понимал, что среди прочих непостижимых вещей и явлений ему предстоит постигнуть малодоступную, до конца никем еще не понятую и никем не объясненную штуковину, так называемый русский характер, приближенно к литературе и возвышенно говоря, русскую душу… И начинать придется с самых близких людей, от которых он почему-то так незаметно отдалился, всех потерял: тетю Лину и тетю Граню, собственную жену с дочерью, друзей по училищу, приятелей по школе… И надо будет прежде всего себе доказать и выявить на белой бумаге, а на ней все видно, как в прозрачной ключевой воде, обнажиться до кожи, до неуклюжих мослаков, до тайных неприглядных мест, доскребаясь умишком до подсознания, которое, догадываться начал Сошнин, и движет творчеством, оно и есть его главный секрет. Как это трудно! И сколько мужества и силы надо, чтобы «мыслить и страдать», все время, всю жизнь, без перекура и отпуска, до последнего вздоха. Может быть, объяснит он в конце концов хотя бы самому себе: отчего русские люди извечно жалостливы к арестантам и зачастую равнодушны к себе, к соседу — инвалиду войны и труда? Готовы последний кусок отдать осужденному, костолому и кровопускателю, отобрать у милиции злостного, только что бушевавшего хулигана, коему заломили руки, и ненавидеть соквартиранта за то, что он забывает выключить свет в туалете, дойти в битве за свет до той степени неприязни, что могут не подать воды больному, не торкнуться в его комнату…
Вольно, куражливо, удобно живется преступнику средь такого добросердечного народа, и давно ему так в России живется.
Добрый молодец, двадцати двух лет от роду, откушав в молодежном кафе горячительного, пошел гулять по улице и заколол мимоходом трех человек. Сошнин патрулировал в тот день по Центральному району, попал на горячий след убийцы, погнался следом на дежурной машине, торопя шофера. Но молодец-мясник ни убегать, ни прятаться и не собирался — стоит себе у кинотеатра «Октябрь» и лижет мороженое — охлаждается после горячей работы. В спортивной курточке канареечного или, скорее, попугайного цвета, красные полосы на груди. «Кровь! — догадался Сошнин. — Руки вытер о куртку, нож под замочек на груди спрятал». Граждане шарахались, обходили измазавшего себя человеческой кровью «артиста». Он с презрительной усмешкой на устах долижет мороженое, культурно отдохнет — стаканчик уже в наклон, деревянной лопаточкой заскребает сласть — и по выбору или без выбора — как душа велит — зарежет еще кого-нибудь.
Спиной к улице на пестром железном перильце сидели два кореша и тоже питались мороженым. Сладкоежки о чем-то перевозбужденно переговаривалнсь, хохотали, задирали прохожих, вязались к девчонкам, и по тому, как дрыгались куртки на спинах, катались бомбошки на спор тивных шапочках, угадывалось, как они беспечно настроены. Мяснику уже все нипочем, брать его надо сразу намертво, ударить так, чтоб, падая, он ушибся затылком о стену: если начнешь крутить среди толпы — он или дружки его всадят нож в спину. На ходу выскочив из машины, Сошнин перепрыгнул через перила, оглушил о стену «кенаря», шофер за воротники опрокинул двух весельчаков с перилец, придавил к сточной канаве. Тут и помощь подоспела — поволокла милиция бандитов куда надо. Граждане в ропот, сгрудились, сбились в кучу, милицию в кольцо взяли, кроют почем зря, не давая обижать «бедных мальчиков». «Что делают! Что делают, гады, а?!» — трясся в просторном пиджаке выветренный до костей человек, в бессилии стуча инвалидной тростью по тротуару: «Н-ну, легавые! Н-ну, милиция! Эко она нас бережет!..». «И это середь бела дня, середь народа! А попади к им туда-а…» «Такой мальчик! Кудрявый мальчик! А он его, зверюга, головой об стену…»
Сошнин «тер к носу», но потрясенный шофер, недавно работающий в милиции, не выдержал: «Попались бы вы этому кудрявому мальчику! Он бы вам запросто укоротил и языки, и жизнь…»
В отделении как раз красил стены давно уже вышедший на заслуженный отдых, но от нужды прирабатывающий к пенсии бывший командир отделения морских пехотинцев, переколовший ножом фашистов больше, чем его дед, поморский рыбак, острогою рыбы.
«За что ты убил людей, змееныш?» — усталым голосом спросил он «кенаря».
«А хари не понравились!» — беспечно улыбнулся тот ему в ответ.
Старый вояка не выдержал, схватил убийцу за горло, свалил на пол. Едва отобрали добра молодца, который вопил на целый квартал: «Бо-о-ольно! Не имеешь право! О-о-ой, отпусти! Отпусти-ы-ы!» — и потом невинно лупил глаза на следователя: «Неужели меня расстреляют? Вышка?! Я ж не хотел…»
Глава третья
«Но все-все! На сегодня хватит!» — отмахнулся Сошнин от навязчивых и всегда в худую погоду длинных и мрачных воспоминаний. В предчувствии избяного тепла он поежился, передернул плечами, словно бы стряхивая мокро и прах от дум своих, погладил себя по лицу рукой и прибавил шагу. У него хотя и было в квартире паровое отопление, но плита тоже осталась от доисторических времен. Хорошее, доброе сооружение — плита. Он ее подтапливал дровишками, которые ему по старой дружбе осенями сваливал с телеги у дровяника Лавря-казак. «Сей час растопим печку, супчику спроворим, чайку покрепче заварим — Бог с ней, с житухой этой неловкой, с погодой гадкой, с проклятой болью в плече. Жизнь, она все-таки, в общем-то, ничего. В ней то клюет, то не клюет…» Сошнин улыбнулся, вновь увидев наяву дядю Пашу с метлой во дворе, с достоинством топающую домой лошадку Лаври-казака, даже мотивчик засвистел из фильма «Следствие ведут знатоки» и промурлыкал выразительнейший текст популярной не только среди милиции, но и среди гражданского населения песни: «Если что-то, где-то, почему-то, у кого-то…» — чем, видимо, и раздражил компанию из трех человек, расположившуюся в их доме, под лестницей, пить вино, поставив бутылку на отопительную батарею. «И что они все троицами-то? Чем объяснить активность этого числа?»