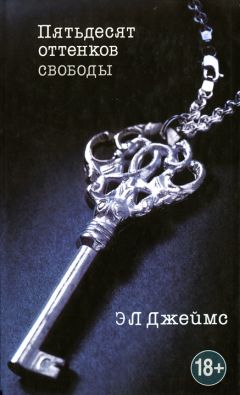Виктор Пелевин - Чапаев и Пустота
– Петя? – спросил он. – Это вы? Сердечно рад вас видеть. Присядьте к нам на минуту.
Я сел за столик и сдержанно поздоровался с Толстым – мы часто виделись в редакции «Аполлона», но знакомы были плохо. Толстой был сильно пьян.
– Как вы? – спросил Брюсов. – Что-нибудь новое написали?
– Не до этого сейчас, Валерий Яковлевич, – сказал я.
– Да, – задумчиво сказал Брюсов, шныряя быстрыми глазами по моей кожанке и маузеру, – это так. Это верно. Я вот тоже… А я ведь и не знал, Петя, что вы из наших. Всегда ценил ваши стихи, особенно первый ваш сборничек, «Стихи Капитана Лебядкина». Ну и, конечно, «Песни царства „Я“». Но ведь и вообразить было нельзя… Все у вас какие-то лошади, императоры, Китай этот…
– Conspiration, Валерий Яковлевич, – сказал я. – Хоть слово это дико…
– Понимаю, – сказал Брюсов, – теперь понимаю. Хотя всегда, уверяю вас, что-то похожее чувствовал. А вы изменились, Петя. Стали такой стремительный… глаза сверкают… Кстати, вы «Двенадцать» Блока успели прочесть?
– Видел, – сказал я.
– И что думаете?
– Я не вполне понимаю символику финала, – сказал я, – почему перед красногвардейским патрулем идет Христос? Уж не хочет ли Блок распять революцию?
– Да-да, – быстро сказал Брюсов, – вот и мы с Алешей только что об этом говорили.
Услышав свое имя, Толстой открыл глаза, поднял свою чашку, но она была пуста. Нашарив на столе свисток, он поднес его к губам, но вместо того чтобы свистнуть, опять уронил голову.
– Я слышал, – сказал я, – что он поменял конец. Теперь перед патрулем идет матрос.
Брюсов секунду соображал, а потом его глаза вспыхнули.
– Да, – сказал он, – это вернее. Это точнее. А Христос идет сзади! Он невидим и идет сзади, влача свой покосившийся крест сквозь снежные вихри!
– Да, – сказал я, – и в другую сторону.
– Вы полагаете?
– Я уверен, – сказал я и подумал, что Жербунов с Барболиным уже уснули за шторой. – Валерий Яковлевич, у меня к вам просьба. Не могли бы вы объявить, что сейчас с революционными стихами выступит поэт Фанерный?
– Фанерный? – переспросил Брюсов.
– Мой партийный псевдоним, – пояснил я.
– Да, да, – закивал Брюсов, – и как глубоко! С наслаждением послушаю сам.
– А вот этого не советую. Вам лучше сразу же уйти. Сейчас здесь стрельба начнется.
Брюсов побледнел и кивнул. Больше мы не сказали ни слова; когда пила стихла и фрачник надел свою туфлю, Брюсов встал и поднялся на эстраду.
– Сегодня, – сказал он, – мы уже говорили о новейшем искусстве. Сейчас эту тему продолжит поэт Фанерный (он не удержался и закатил глаза) – хмм… прошу не путать с тигром бумажным и солдатиком оловянным… хмм… поэт Фанерный, который выступит с революционными стихами. Прошу!
Он быстро спустился в зал, виновато улыбнулся мне, развел руками, подхватил слабо сопротивляющегося Толстого и поволок его к выходу; в этот момент он был похож на отставного учителя, тянущего за собой на поводке непослушного и глупого волкодава.
Я поднялся на эстраду. На ее краю стоял забытый бархатный табурет, что было очень кстати. Я поставил на него сапог и вгляделся в притихший зал. Все лица, которые я видел, как бы сливались в одно лицо, одновременно заискивающее и наглое, замершее в гримасе подобострастного самодовольства, – и это, без всяких сомнений, было лицо старухи-процентщицы, развоплощенной, но по-прежнему живой. Недалеко от эстрады сидел Иоанн Павлухин, длинноволосый урод с моноклем; рядом с ним жевала пирожок прыщавая толстуха с огромными красными бантами в пегих волосах – кажется, это и была комиссар театров мадам Малиновская. Как я ненавидел их всех в эту долгую секунду!
Я вынул из кобуры маузер, поднял его над головой, откашлялся и в своей прежней манере, без выражения глядя вперед и никак совершенно не интонируя, только делая короткие паузы между катернами, прочел стихотворение, которое написал на чекистском бланке:
Реввоенсонет
Товарищи бойцы! Наша скорбь безмерна.
Злодейски убит товарищ Фанерный.
И вот уже нет у нас в ЧК
Старейшего большевика.
Дело было так. Он шел с допроса,
и остановился зажечь папиросу,
когда контрреволюционный офицер
вынул пистолет и взял его на прицел.
Товарищи! Раздался гулкий выстрел из маузера,
и пуля ужалила товарища Фанерного в лоб.
Он потянул было руку за пазуху,
покачнулся, закрыл глаза и на землю – хлоп!
Товарищи бойцы! Сплотим ряды, споем что-нибудь хором,
И ответим белой сволочи революционным террором!
С этими словами я выстрелил в люстру, но не попал.
Но сразу же справа от меня раздался другой выстрел, люстра лопнула, и я увидел рядом с собой передергивающего затвор Жербунова. Он с колена дал еще несколько выстрелов в зал, где уже кричали, падали на пол и прятались за колоннами, а потом из-за кулис вышел Барболин. Пошатываясь, он подошел к краю эстрады, завизжал и швырнул в зал бомбу. В зале полыхнуло белым огнем, страшно грохнуло, опрокинулся стол, и в наступившей тишине кто-то удивленно охнул. Возникла неловкая пауза; чтобы хоть как-то заполнить ее, я несколько раз выстрелил в потолок и вдруг опять увидел странного человека в темной гимнастерке, который невозмутимо сидел за своим столом, прихлебывал из чашки и, кажется, улыбался. Я почувствовал себя глупо.
Жербунов еще раз пальнул в зал.
– Прекратить! – крикнул я.
Жербунов пробормотал что-то вроде «мал ты мне указывать», но все же закинул винтовку за плечо.
– Уходим, – сказал я, повернулся и пошел за кулисы.
Какие-то люди, стоявшие за ними, при нашем появлении кинулись в разные стороны. Мы с Жербуновым прошли по темному коридору, несколько раз повернули и, открыв дверь черного хода, оказались на улице, где от нас опять шарахнулись. Мы пошли к автомобилю. Морозный чистый воздух после духоты прокуренного зала подействовал на меня как пары эфира: закружилась голова и смертельно захотелось спать. Шофер, покрытый толстым слоем снега, все так же неподвижно сидел на переднем сиденье. Я открыл дверь в кабину и обернулся.
– А где Барболин? – спросил я.
– Сейчас, – ухмыляясь, сказал Жербунов, – дело одно.
Я залез в автомобиль, откинулся на сиденье и мгновенно уснул.
Меня разбудил женский визг, и я увидел Барболина, который на руках нес из переулка картинно отбивающуюся девицу в кружевных штанишках и съехавшем на бок парике с косичкой.
– Подвинься, товарищ, – сказал мне Жербунов, залезая в кабину, – пополнение.
Я подвинулся к стене. Жербунов наклонился ко мне и сказал с неожиданной теплотой в голосе: