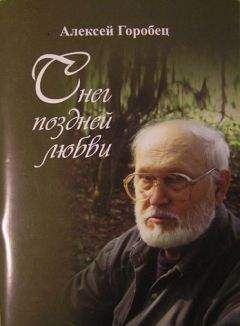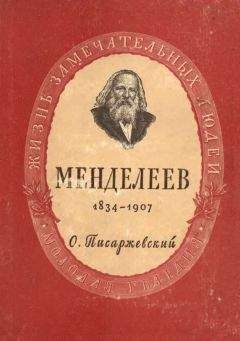Дмитрий Калугин - Лестница Янкеля
Услышав новость про приезд Седого, Парикмахер и Костыль закивали головами, а Янкель процитировал:
Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
Костька задумался.
– Знаешь, Мухрым, о чем я недавно подумал? – заговорил он спустя некоторое время. – Ты ведь читал Горького “На дне”?
У Зеры были большие проблемы с учебой, так что большую часть книг по школьной программе он читал в конце года, чтобы спастись от двойки.
– Читал, разумеется, – ответил я. – Откуда ж тогда я знаю про “сон золотой”?
– Ну, да… Так вот, мне пришло в голову, что “На дне” – это про нас.
– Как про нас?
– Ну, про всех нас. Про Первый проезд. Ты посмотри – живем почти что вместе, все друг друга знаем… У каждого свои дела…
– Да брось ты, – говорю. – Это пьеса – про людей, выброшенных из жизни, у которых все хорошее либо позади, либо – “сон золотой”.
– Это тебе Ильинична (наша школьная учительница по литературе) наплела небось. Нормальный человек до этого не додумается…
– Нет, мне и самому так кажется.
– Я говорю не про содержание, – настаивал Костька. – А если в общем сравнивать. Я, между прочим, нашел даже прямое сходство.
– Какое сходство?
– Вот Дятел (Генка Сорокин), например. Он – Сатин…
– Почему?
– Ну как – Сатин же говорит в самом начале, что служил на телеграфе!
– Ну?
– Чего ну? Не соображаешь? Генка же тоже на телеграфе работает.
Так оно и было: Генка Сорокин действительно работал на почте телеграфистом (в большом сером здании на углу площади Горького и Свердловки).
– А дальше?
– Дальше надо придумать, – сказал Генка. – Например, твой брат Левка, он ведь какой – суровый мужик?
На этом все засмеялись.
– И главное, вцепится – не отстанет. Да Анькой (Булочная), сестрой твоей, командует.
– И кто это?
– Как кто? Клещ! Митрич!
Это прозвище гораздо больше подходило Левке, чем Химик, появившееся случайно и совершенно ему не шедшее.
Всем остальным оно тоже понравилось, так что с этого момента Левка стал Клещом, или Митричем. Сначала он спорил, ведь произведения Горького не читал, но когда ему рассказали, что к чему, – подумал и согласился. Так он и остался на всю жизнь Клещом (Митричем), даже я это слышал от отца: “Клещ, давай завтракать” – когда дядя Хазер бывал у нас в гостях.
– А Костылев, – ввязался Парикмахер, – это, например, вот тебе: Костыль.
Костыль обиделся, но поскольку учился только в восьмом классе, ему до Горького было как до луны, и поэтому он просто обозвал Парикмахера дураком.
– А кто еще?
Стали придумывать. Не все сходилось, конечно же, хотя идея была хорошая. Нашлась роль для Яшки Зарембо (Черта).
– Он ведь черт, нерусский, – сказал Костька, – за это его и прозвали Чертом. Так пусть будет Татарином!
Яшка Зарембо, когда узнал об этом, был, в общем-то, не против. И даже выучил стишок по этому поводу:
Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно.
Дни и ночи часовые
Стерегут мое окно – и т. д.
– Ну, хорошо, – сказал Янкель, – а я кто?
– Ну, это ясно, – ответил Костька Панков. – Ты – Актер.
– Почему? Я ж не пью и вешаться не собираюсь!
– Но зато стихи читаешь про “Сон золотой”. Да и вообще…
Сам Костька скромно отвел себе роль Васьки Пепла, а подругу свою переименовал в Василису, хотя ни то, ни другое не прижилось, и можно сказать, что из всего этого только Левка стал Клещом, а Яшка Зарембо иногда, если его об этом просили, декламировал: “Солнце всходит и заходит…”
Стали гадать, кто бы мог стать Лукой. Но это было сложнее всего, поэтому, перебрав всех знакомых, решили пока отложить этот вопрос. Но опять же, как это часто бывает, все решилось само собой в тот вечер, когда однажды к нам в дом пришла наша учительница по литературе Вера Ильинична Лукина, чтобы поговорить с мамой. Отец уже был сильно болен и в семейных делах не участвовал.
Разговор был обо мне.
– У вас очень талантливый мальчик, – говорила она маме. – Ему надо продолжать учиться.
– Да он собирается, – растерянно сказала мама, чувствуя недоброе. – На врача. Или в Технологический.
– Нет, – сказала решительно Вера Ильинична (за тем и пришла). – Мне кажется, что это… не совсем его. Понимаете? Он у вас очевидно гуманитарного склада. Просто что-то удивительное… Учится по литературе лучше всех в классе, да и не только это. Понимаете, он все это любит…
Мама тревожно посмотрела на Веру Ильиничну.
– Ему надо поступать на филологический факультет, заниматься литературой.
Мама была в ужасе и еле сдерживала слезы.
– Вы знаете, – продолжала Вера Ильинична, – он должен ехать… В Ленинград… и поступить в университет. Сейчас и время подходящее, говорят, что на национальность больше не смотрят. Кроме того, там работает мой хороший знакомый. Он ему поможет, если что…
Не имеет смысла передавать этот разговор полностью – результат был вполне предсказуем. Мама не хотела слышать ни про какой Ленинград и запретила мне даже говорить об этом. Я поступил в Технологический, как и планировалось, но мысль о том, что мне надо учиться в университете, уже не выходила из головы.
Отец умер. Сестры к тому времени вышли замуж и ушли из дома. Братья тоже смотрели в разные стороны. Надо было что-то решать, время шло, я уже был на втором курсе. И вот как-то вечером, собравшись с духом, Янкель объявил маме, что уезжает в Ленинград. Для всех (и для нее в первую очередь) это было неожиданностью, никто ведь не знал, что искры давнишнего разговора с Верой Ильиничной тлели внутри меня, так что наружу вырвалось уже самое настоящее пламя.
Возможно, здесь была удачной сама идея (Горький, “На дне” и все эти разговоры вокруг, которые велись хотя бы и в шутку), совпадение, которое тем не менее не могло быть случайным и выводило меня на совершенно другие просторы. Так что я уверовал в свое будущее, словно в какую-то новую религию, и готовился даже за это серьезно пострадать. На меня наседали все вокруг, но на уговоры я не поддавался. В общем, я стал самым настоящим апикойресом, мама большую часть дня проводила в дальней комнате и старалась не смотреть в мою сторону. Накануне моего предполагаемого отъезда в доме ходили тихо, словно при тяжелобольном (“фурт а пэйгер а барг аруп”: “покойник едет вниз с горы”). Так это все, по крайней мере, начиналось или заканчивалось для меня.
В день моего отъезда, рано утром, пока еще все спали, я тихонечко оделся и вышел во двор. Все было, как всегда, и находилось на своем месте: сиреневый палисадник, деревянный “Домъ Ревина” и наш флигель. И где-то уже вдали, на заднем плане, был я. Вещи уменьшились, сжались, сделались какими-то чужими и тусклыми. Постояв на крыльце, я вернулся в комнату, оделся и взял чемодан. В доме стояла утренняя тишина, все ведь думали, что поезд у меня только завтра, но в действительности билеты были куплены на сегодня, чтобы избежать тягостных прощаний и проводов. Так вот и начался мой исход из Горького, ранним утром, когда все еще спали и никто не знал, что Янкель несется по улице с чемоданом в руке, думая, что его никто не видит.
На вокзале было полно народа – зал ожидания, как всегда, битком, люди сидели среди тюков, ждали своих поездов или просто чего-то ждали. Те, кто не спал, громко разговаривали. Везде царил дух тревоги и беспокойства, ведь вокзал совсем не простое место для тех, кто хотя бы немного помнил войну. Отсюда уходили эшелоны на фронт, сюда прибывали санитарные поезда с ранеными, а после войны – составы с пленными немцами. С момента, когда закончилась война, многое изменилось: фасад перекрасили, над входом установили большие часы и поменяли лавки в зале ожидания. При этом все равно было как-то холодно и неуютно, так что приходилось коротать время в буфете, стоя за одноногим столом, который мы называли “ромашкой”. Время не стояло на месте – бежало, пока Янкель слонялся из стороны в сторону по перрону.
Вагон был плацкартный, чтобы подешевле, поэтому спать Янкель особенно не планировал и приготовился размышлять о своем будущем, которое рисовалось ему в самых неопределенных тонах. Ему было тяжело уезжать, но ведь другого выхода не было, и он очень гордился тем, что ему удалось обмануть своих и чужих, да мало ли еще кого… Со стороны могло показаться, что его предприятие носит безумный характер, но, как известно, “безумству храбрых” и т. д., а кроме того, существовало внутреннее убеждение, что продолжать, как раньше, было уже нельзя – ведь что бы там ни говорил Левка, от жизни осталась одна только видимость. Туман, несмотря на вечернее время, рассеивался, и все обретало свои более или менее очевидные контуры.
Янкель сидел и в полудреме уже не понимал, где он – внутри или снаружи всего, что происходит или уже произошло. Это не я говорю, это ты пишешь.
– Просыпаемся, конечная, – услышал он голос проводника, который ходил по вагону и толкал спящих.