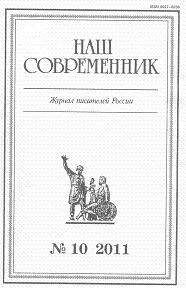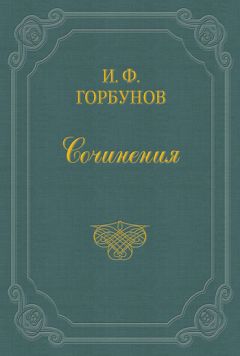Анатолий Ким - Мое прошлое
Как и все деревни, Роскошь была населена крестьянами, работавшими почти бесплатно на государство, и вся жизненная надежда их была связана лишь с тем, что давали приусадебные участки. На них в основном выращивали картошку, которая рождалась в тех краях очень хорошо; картошкой питались и сами жители, ею кормили домашний скот, свиней и птицу.
В сентябре, когда начались занятия, классы нашей семилетней школы в деревне оказались пусты — вся округа начала уборку картофеля, и дети принимали в ней участие наравне с родителями. Когда после уборки, через пару недель, ученики начали появляться в школе, вид у них был изможденный, руки у всех были черны от земли, покрыты темными, кровоточащими трещинами, и на ладонях блестели твердые роговые мозоли. Но, несмотря на усталость, крестьянские дети, мои новые друзья-приятели, с довольным видом сообщали друг другу, сколько мешков картошки накопали их семьи со своих приусадебных соток. А участки у колхозников в Роскоши были немалыми — до полугектара, а у некоторых даже и больше…
Там впервые я соприкоснулся с русской деревенской жизнью, невзрачной на вид, как картошка, но такой же богатой содержанием жизненной энергии и добрых надежд нации. Для России и раньше, и теперь, и, наверное, в будущем деревня была и останется главным хранилищем духовных ценностей и нравственного богатства русских людей. В серой деревянной деревенской Руси предстояло мне распознать душу ее народа, проникнуться ее теплом, ощутить и полюбить корни могучего русского языка. Русский писатель во мне родился, я думаю, именно там, в дальневосточной деревеньке Роскошь. Именно там были предприняты и мои самые первые в жизни попытки написать какие-то стихи.
Но лесной воздух, насыщенный парами болот и вечной прохладой таежных дебрей, куда не проникали лучи солнца, сырость и холод Уссурийского края почти доконали меня. Хрипы в груди и кашель уже не давали спать по ночам, влажный и липкий пот, в котором я буквально купался во время припадков удушья, казался последним смертным потом.
Люди обычно не замечают того, что Бог постоянно творит каждого из них, — и эта Его работа, это творчество ни на миг не прекращаются. Людям обычно кажется, что они давно существуют такими, какие они есть, и ничто в них уже не изменится. Они не верят и не хотят верить тому, что каждый из них родился для того, чтобы умереть. Нет и нет! — вопит любая, самая малая, клеточка его существа, и человек бодрой рысью устремляется в жизненную гонку…
Но только тому, чью грудь рвет и душит непобедимый недуг, дано постичь роковую незаконченность своего существа — однажды ночью, вдруг, уставясь широко раскрытыми глазами в кромешную темноту. Вся жизнь лишь кажется законченной, как достроенный дом, — и это иллюзия, охватывающая смертную душу. И только тем, для которых узелок за узелком развязываются путы жизни, открывается нечто ошеломительное, странное — и безмерно неутешительное. Оказывается, что ты никогда не дойдешь, сколько бы ни шел, — никогда не доживешь, сколько бы ни жил.
И то, что считал я своим существом, своей личностью, неким Анатолием Кимом, вдруг оборачивается не чем иным, как клочком голубоватого тумана поутру, за окном, над смутным картофельным полем. Или становится совершенно ясным, что багрово-золотистая осень тайги светится, пылает где-то в височной части моей головы — там, где с лихорадочным беспокойством бьется тоненькая нервная жилка.
И меня уже нет — есть картина, странный, немного сумбурный кинофильм, который составляется из кусочков желтой казахстанской степи, синеватых каменных глыб Камчатки и оранжево-буйных всплесков осенней уссурийской тайги. Мое «я» — это просторы и ландшафты Земли, на которых меня уже нет. Но, коли я все же существую, во мне продолжают существовать те картины мира, из которых создается кинофильм моей судьбы.
И этот фильм тоже не будет закончен.
Но я вновь просматриваю превосходный «отснятый киноматериал».
Наша первая осень в уссурийской деревне, золотистое, теплое бабье лето. Сказочное изобилие грибов в лесу. Увитые лозами дикого винограда белые березы и гроздья темно-синих ягод на них. Райские деревья на опушке леса: усыпанные перезрелыми ягодами боярышники и дикие яблони…
Грибов в ту осень народилось столько, что за ними даже неинтересно было ходить в лес. И вот как это происходило. Мы с приятелем Колей Смотраковым однажды вышли с ведрами в руках за деревню и, не дойдя еще до леса, увидели возле дороги большой березовый пень, весь усыпанный светлыми, чуть желтоватыми грибами. Это были осенние опята. Мы с Колей подошли, быстренько набрали полные ведра грибов, после чего он сказал: «Ну, все. Пошли домой». Тут же рядом, вблизи пня, мы нашли несколько больших подосиновиков с багровыми лоснящимися шляпками. Эти гиганты едва уместились сверху ведра, туго набитого мелкими опятами.
Жаренные деревенским способом, в масле и с луком, грибы настолько понравились всем в нашей семье, что однажды отец с матерью решили сами сходить за грибами. Они раньше никогда этого не делали: лесная жизнь и всякие лесные охоты и промыслы были им неизвестны. Вот и вышло так, что родители притащили домой и, ни в чем не сомневаясь, накормили семью какими-то грибами, от которых отец и я чуть не умерли. Мы провалялись два дня, то и дело теряя сознание, нас рвало какой-то пенистой желчью.
Малолетние братишка и сестренка отделались легким недомоганием. Одной матушке ничего не было: жертвуя собою, как и всегда, она почти не ела жареных грибов, побольше подкладывая нам с отцом. И ей же пришлось выхаживать нас, отпаивать свежим молоком, как посоветовали деревенские женщины.
Но не только грибами потчевала нас уссурийская тайга. Не забыть мне вкуса черного дикого винограда, мелкого, как смородина, с сизым налетом на ягодах. После первых осенних заморозков они окончательно доспевали и были необычайно сладкого и одновременно терпкого вкуса. И дикий лимонник с желтыми ягодами, пахучими и кислыми, запомнился мне навсегда. И непередаваемый вкус лесных яблочек, размером с черешню, с нежной мучнистой мякотью…
Та золотая осень в тайге, вокруг деревни Роскошь, была расшита яркими красными ягодными узорами.
Как во сне, вижу сейчас и другие чудесные творения Уссурийского края. Просторная роща пробковых деревьев. На их стволах лопнула и отпала старая кора, и от этого деревья кажутся больными либо высохшими. А вот выступили из таежной чащобы на широкий перелесок и темные толпы маньчжурского ореха, похожего на грецкий: в толстой мясистой упаковке, с теми же измятыми твердыми скорлупками.
Осенью золотисто-багровые просторы лесов вдруг оглашались могучим ревом, и эхо далеко разносило по горам эти дикие трубные звуки. Местный охотник, он же и учитель физкультуры в школе, разъяснил моему отцу, что это ревут изюбры, дикие олени, — у них начался гон, свадебная пора. Этот учитель, по фамилии Лебедь, красивый, как киноактер, еще молодой мужчина, показал нам с отцом, как надо перекликаться с изюбрами. Он снял ствол со своего охотничьего ружья и, приставив его дулом ко рту, стал протяжно трубить. Звук получился таким же хриплым, диким и грозным, как и рев зверя, — и тотчас же издали донесся ответный крик изюбра.
Учитель Лебедь пристрастил к охоте и моего отца. Отец купил дорогое ружье-двустволку, обзавелся всем необходимым охотничьим снаряжением, в доме у нас появились такие необычайно привлекательные вещи, как мешочки со свинцовой дробью и тяжелыми пулями — «жаканами», коробки с черным порохом, с блестящими пистонами, широкий пояс-патронташ с отделениями для зарядов с дробью и пулями, шомпол из красного дерева, медные и картонные гильзы. Мы жили на квартире у одинокой старухи Царенчихи, в бревенчатой избе, и занимали единственную комнату — сама же хозяйка ютилась в крошечной передней и спала на русской печке. Тесновато было нам в этом доме, и все охотничье снаряжение, пакеты с порохом и мешочки с пулями то и дело попадали матери под руку, и она ворчала на отца, что он подвергает опасности семью. Но он был захвачен новой страстью и, не споря с ней, увлеченно занимался своим опасным делом: менял пистоны на патронах, насыпал порох маленькой меркой, набивал патроны, заколачивал в них войлочные пыжи. И я с удовольствием помогал ему.
В теплые дни бабьего лета я тоже ходил с ним на охоту. Из-за болезни я был слаб, поднять ружье мне было не под силу, и я не стрелял. Но уж очень хотелось побродить вместе с отцом по тайге, и я со слезами умолял его взять меня с собою, и он уступал, несмотря на то, что матери не нравились эти наши охотничьи подвиги. После каждого из них мне становилось хуже, я сам чувствовал это — и все же неодолимо тянуло в лес, и огромным счастьем для меня был каждый наш совместный поход.
Я был при отце кем-то вроде охотничьей собаки: шел впереди и вел его за собою. У меня было чутье на дичь, я всегда точно выводил на нее. К тому же я научился весьма искусно свистеть в маленький жестяной свисток, подражая писку рябчика. Даже заядлый охотник Лебедь не умел столь хорошо свистеть рябчиком, как я, а у моего отца это и вовсе не получалось. Весь потный, задыхаясь от хриплого клокотания в груди, я тихонько шагал по неведомым охотничьим тропам и время от времени самозабвенно принимался свистеть, стараясь передать все тончайшие оттенки птичьего голоса. И в ответ отзывались рябчики, а некоторые из них прямо летели ко мне, нежно шумя крыльями.