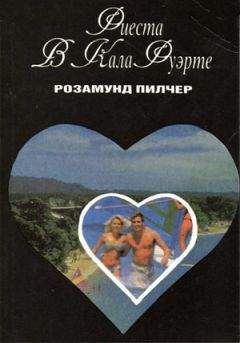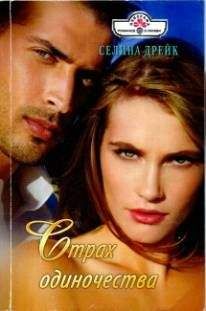Джонатан Майлз - Дорогие Американские Авиалинии
Лучшее, что я могу сказать о следующих восьми месяцах, — это то, что мы старались. Мы освободили вторую спальню, которую только что переделали в писательский кабинет для меня, поставили там кроватку и пеленальный столик. Купили в книжном на Мэйпл-стрит «Доброй ночи, Луна» и «Сказки для Френсис», а в одной лавочке во Французском квартале — несколько сувенирных вудуистских куколок. Мы думали, что положить их в детскую кроватку будет придурошно/потешно. Нам нужны были деньги, и в «Ставках» я перепрыгнул за стойку, сделавшись из распивалы разливалой; Жирняга Феликс даже установил на стойке пластиковую банку с надписью «В ПОЛЬЗУ БЕННИНОГО МАЛЫША», но, как только о ней узнала Стелла, банка исчезла. По ночам я прикладывался ухом к животу Стеллы, стараясь что-нибудь услышать или почувствовать, но так ни разу ничего и не уловил. «Ты что, не чувствуешь? — спрашивала она. — Вот здесь. Вот. Толкнул». Я не чувствовал. Частенько я злился непонятно на кого, а то начинал трепетать, но по большей части мне было жутко. Однажды после закрытия бара я напился до беспамятства, и наутро Феликс вызывал «скорую», потому что не мог привести меня в чувство. Потом он мне рассказал, что пробовал даже пинать меня по яйцам. Как и следовало ожидать, Стеллу это не порадовало. Прошло несколько дней, и однажды ночью, около трех, меня разбудил звон бьющейся посуды. Стеллы в кровати не было, и я позвал. Снова грохот и звон. Я метнулся на кухню и увидел Стеллу возле мойки. Всхлипывая, она швыряла об пол одну за одной наши тарелки и чашки. Все кругом было в осколках. Я обнял Стеллу, дал поплакать, затем отвел в кровать и вернулся убрать фарфоровое крошево. Об этом случае мы никогда не заговаривали, несмотря на зияющие пустоты в нашем буфете.
Стелла Кларинда Форд родилась в январе. Стеллой ее назвали, конечно, в честь матери, а Кларинду мы почерпнули из Бернсовой «Владычицы души Поэта и Королевы Поэтесс…». Я догадываюсь, что мне нужно объяснить и фамилию, т. е. почему Форд, а не Них. Так решил мой отец незадолго до моего рождения. Приличия обязывали мисс Виллу выйти за обрюхатившего ее польского ликвидатора, однако становиться Виллой Них она отказалась. («Вилла Них звучит как тролль из норвежской мифологии, — сказала она Генрику. — Или как эпический чих».) Так что, не советуясь с нею дальше, Генрик отправился в суд и сменил имя на самое американское, какое только мог припомнить, — Генри Форд. Лишний пласт смехотворности к этому выбору добавляло то, что Генрик, столько претерпевший в войну, ничего не знал об антисемитизме своего «крестного». Более того: с тех пор мой отец был верным поклонником фордовских машин и, когда стал автомехаником, шутил, что предпочитает ремонтировать именно «форды», потому что это «семейный биз-а-нес». Перед рождением Стеллы-младшей мы со Стеллой-старшей прикидывали не всерьез, не выбросить ли Форда и не вернуть ли подлинного Ниха — отчасти чтобы позлить мою мать, — но Стелла не смогла не поддержать ее насчет эпического чиха. («Или неприличный русский тост, — добавила она, — Стелла Них..!»)
Взяв впервые дочь на руки, я, естественно, расплакался. Такая крошечная и восхитительная — великолепная розовая крупинка жизни. Только вот должен признаться, что перед этим я надрался практически до потери рассудка. Когда у Стеллы отошли воды, я был на работе, но она сказала, что все в порядке, что с ней ее мать, и поскольку роды, несомненно, будут долгими, я могу приехать и после смены. Но роды оказались скорыми, и через два часа ее мать позвонила в «Ставки» и сообщила, что у нас родилась девочка. Само собой, все кинулись меня угощать, поднялась великая суматоха с новыми и новыми поздравительными проставками, и, как оно часто бывает, когда пьешь, я потерял счет времени. Все завсегдатаи остались после закрытия, Феликс запер двери и принес шампанского, а Чокнутая Джейн лупила по стойке и требовала коньяку, который она произносила «ка-няк». Когда я наконец заявился в больницу, то был столь безобразно пьян, что полицейский на входе не хотел меня пускать, но я заявил, что у меня родилась дочка, и тогда он самолично сопроводил меня в родильное отделение. Когда я, обливаясь слезами, взял маленькую Стеллу из кроватки, полицейский караулил рядом, на пару с медсестрой, которая простерла руки, готовая поймать ребенка, если я его уроню. «Поезжай домой, Бенни», — сказала мне мать Стеллы. Будучи уроженкой Лондона, да еще и профессором английской литературы в Пеппердайне,[27] она обладала таким хрустким выговором, что любая ее фраза звучала как шутливый нагоняй; а если она и вправду кого-то прогоняла, это было подобно удару молнии.
— Ради бога, доставь себя домой.
Стелла все это время была в забытьи, я слегка поцеловал ее в лоб, и полицейский отконвоировал меня к выходу. Пошатываясь, я двинулся во тьму, и он вслед мне посоветовал закинуть в желудок булочку с колбасой, а когда я удалился на изрядное расстояние, прокричал поздравление.
Дорогие Американские авиалинии, к сему прилагаю мой седалищный нерв. Вследствие износа, возникшего в результате многих часов, проведенных мной в этом убоищном о’харовском кресле — в этих патентованных о’хреслах, — я высылаю его вам для срочного ремонта. Конверт для ответа также вложен, можете писать мне на площадку инвалидных колясок, что напротив терминала Кей-8, Чикаго, штат Иллинойс.
Про коляски — не шутка. Видите ли, я сижу в одной из них прямо сейчас. Они не привязаны и, очевидно, пасутся на воле, так что, увидев, как некий молодой бугай устраивается в одной, я срубил фишку. Само собой, я обещаю сразу вскочить, едва завижу ковыляющего инвалида. Эти коляски сейчас и впрямь самые удобные места во всем аэропорту, не считая кровати «Спальный номер», выставленной в проходе между секторами «кей» и «эйч». Кровать эта, сообщил мне молодой бугай, сейчас в осаде. «Один чувак давал продавцу двести баксов, чтобы тот, типа, пустил его сегодня на ней поспать, — рассказал бугай. — Потом другой чувак поднял до пяти сотен. Типа, во всем сраном городе ни в одной гостинице нет мест. К полуночи за эту кровать точно будут драться. Бог мой, это будет шикарно. Продавец, похоже, офигел». Я предложил прикатить туда в своем кресле, попробовать развести каких-нибудь добрых самаритян положить меня на ту кровать и поглядеть, кто осмелится выкинуть прикорнувшего калеку. Парню моя идея понравилась. «Чувак, — сказал он уважительно, — да ты больной».
Я отдаю себе отчет, что вышесказанное почти никак не объясняет моего нынешнего затруднительного положения. Нет, не так. Нашего затруднительного положения. «Ну, я подбираюсь», как я иногда отвечаю редакторам, когда интересуются, в какой стадии перевод. Надеюсь, что не вываливаю на вас слишком много, но впервые в жизни я пытаюсь быть честным, пытаюсь расставить все точки над «i». Вы должны меня понять: стирка собственной жизни в машинке вряд ли обернется для меня сейчас чем-нибудь хорошим. Самомифологизация — типа пьянства по четырнадцать часов в день — рано или поздно размалывает в прах. Однажды утром смотришь в зеркало и понимаешь: ни это лицо, ни эта жизнь не входили в твои планы. Кто этот урод с мешками под глазами и как он оказался в моем зеркале? Ну вот, теперь я, несомненно, избавил бы нас обоих от больших огорчений, если бы сейчас же заявил, что лечу в Лос-Анджелес пожертвовать почку для прикованного к постели сироты по имени Малыш такой-то. Мы могли бы сказать друг другу «привет» и ограничиться душевным письмом размером в одну страничку. Да, вот так. Еще одна возможность для меня бездарно растранжирить слова.
Со своего наблюдательного пункта в инвалидном кресле я вижу закат за окнами аэропорта. Роскошный, оперный закат, огненного цвета, в котором оранжевыми вспышками мерцают загорающие на взлетной полосе самолеты. Открытка с видом на ад из чистилища. Или на рай, отсюда трудновато разобрать.
Но давайте вернемся в 79-й. Я постараюсь покороче, хотя, наверное, вам уже ясно, что краткость — не мой талант.
Стелла никогда не отличалась беспечностью, и наши дела сложились как сложились не от безоглядной страсти, а из-за накладки с противозачаточными пилюлями, но все равно, когда мы все оказались дома, я дивился, до какой степени она опекала Стеллу-маленькую, которую я звал Крупичкой. Стелла заявляла, что я неправильно держу ребенка, ругала меня за то, что я его щекочу, потому что от этого могут «перевернуться органы», просила больше не браться менять подгузники, потому что я недостаточно тщательно вытираю Крупичкину попку и иногда забываю присыпать ее тальком. Раз я пустился танцевать с Крупинкой — короткий неуклюжий родительский тустеп в гостиной, — и тут Стелла так рванулась с дивана, будто я уже раскручивал Крупинку в руке, чтобы швырнуть в окно. «Ты ее покалечишь», — сказала Стелла, с нарочитой грубостью забирая дитя из моих рук. Каждый вечер Стелла укладывала девочку спать в кроватку, но через несколько часов Крупичка начинала плакать, и тогда Стелла приносила ее в нашу постель. Тут я должен был удалиться, потому что Стелла боялась, что я, ворочаясь, задавлю ребенка, так что через несколько недель я сдался и стал в свободные от работы ночи стелить себе на диване. В гостиной мне было одиноко, так что я вернулся к старым привычкам и мешал себе утешительные порции водки с тоником. Зная, что Стеллу раздосадует вид бутылок из-под «Смирнова», я прятал их в книжном шкафу позади книг, а потом потихоньку выносил партиями, пока обе мои Стеллы гуляли или «были за продуктами», как мы говорим у себя в Новом Орлеане.