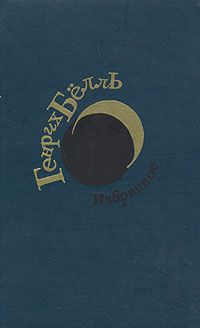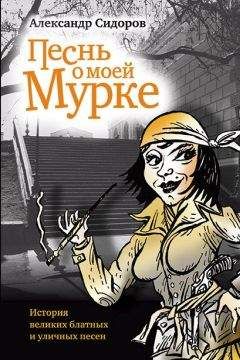Николай Веревочкин - Место сбора при землетрясении
Георгий Иванович держал за руку хрупкое, но заметно беременное существо. Хвостики свисали фейерверком.
— Даша? — удивился он.
— Привет! — ответила она.
— Вы что — знакомы? — ревниво спросил Кукушечкин.
— Мало сказать, знакомы, — ответила она, улыбаясь, — Димина парта сразу за моей стояла. Дима у нас был знаменитость. В него все девчонки были влюблены. Я думала — ты станешь архитектором. Ой, какой ты, Дима, страшненький стал. Лысенький. У тебя дети есть? А кто жена? Я хотела бы увидеть твою жену.
— Дима, ты учился с олимпийской чемпионкой в одном классе и дергал ее за косички? — не поверил Кукушечкин.
— К сожалению, за косички он меня не дергал, — отвечала за Дрему Даша и так открыто, так ясно посмотрела в глаза однокласснику, что тот почувствовал искреннее раскаяние.
Надо было дергать ее за косички. И как можно чаще. Чтобы не задавалась.
— Ну, еще не поздно, — сказал Кукушечкин легкомысленно.
— Сейчас это опасно, — ответила она.
— Ну, да, ну, да, — поспешно согласился Кукушечкин, — дзюдо — серьезный спорт.
— При чем здесь спорт. У меня муж — метр девяносто два.
— Тоже спортсмен?
— Одного спортсмена на семью хватит. Он у меня малым бизнесом занимается.
— Рад тебя видеть, Даша. Можно до тебя дотронуться? — спросил Дрема, пряча на всякий случай руки за спину.
— Дотронься, Дремушка, дотронься, — разрешила она, смутив его улыбкой из далекого детства.
Все в ней изменилось, кроме этой улыбки.
Плечо было мягкое, теплое. Статическое электричество, накопившееся в шерстяной кофточке, щелкнув, маленькой молнией укололо подушечку среднего пальца.
— Опасная примета, Георгий Иванович, — сказал Дрема, отдернув руку, — если все подряд будут прикасаться к человеку — всю удачу уведут.
— Не уведут, — утешил его и Дашу Кукушечкин, — олимпийский чемпион — звание на всю жизнь.
— Ах ты, гордость наша всемирная, красавица наша, умница! — с треском распахнув дверь запретной комнаты, выкатил Сундукевич комплимент, большой и круглый, как снежный ком. — Дай, я тебя, родная, поцелую по-стариковски. Идем со мной, Дашенька, ну их. Ах, какой я из тебя шедевр сделаю, какой шедевр! Медали принесла? Напрасно, милая, напрасно. Надо было принести. Ну, ничего, ты и без медалей хороша, золотая наша. Поздравляю тебя с новосельем. Читал — город тебе квартиру подарил?
— Ой, уж и подарил. Трехкомнатную дали, а двухкомнатную забрали. Больше шума.
— Марк, сними нас с Дашей на память, — попросил Кукушечкин. — Дашенька, это правда, что Вы задержали матерого преступника?
— Ой, уж, господи, матерого! — фыркнула она, смутившись. — Хиляк. Говорить не о чем.
— Потом, потом наговоритесь, — остановил расспросы Сундукевич, увлекая олимпийскую чемпионку в свой закуток.
* * *— Заказали? — спросил Кукушечкин, усаживаясь за столик под знакомым плакатом, призывающим советских людей освоить целинные и залежные земли. — Мужики, давайте договоримся, ни слова о женщинах. Хорошо, Марк?
— Что же мы будем весь вечер молчать? — удивился Сундукевич.
— Поговорим о работе.
Сундукевич лишь хмыкнул в ответ.
— А, впрочем, почему бы и не помолчать, — осознав тупиковую ситуацию, печально вздохнул Кукушечкин.
Скука воцарилась за столом. Сундукевич рассеянно перелистывал блокнот Дремы. Дрема внимательно разглядывал плакат тридцать седьмого года: «Не болтай!». Работница в красном платке, сурово сдвинув брови, прижимала палец к губам. Кукушечкин с глубокомысленным видом ковырялся в ухе дужкой очков.
— Вот это не шарж, — сказал Сундукевич.
— Не шарж, — равнодушно согласился Дрема с критикой старого фотографа. — А что делать? Она решает, что шарж, а что не шарж. Вот шарж. А она его забраковала. Почему голова больше туловища? Почему четыре пальца? У меня язык от объяснений в мозолях. Я, Георгий Иванович, честно сказать, вообще не вижу себя в этом проекте.
— Нет уж, дорогой, никто с этого корабля не побежит, — пресек упаднические настроения Сундукевич, — или вместе сойдем в порту или вместе потонем. С гимном на устах. Не так уж и плохо. Доработаешь за счет сюжета. Она у нас кто? Торговля она у нас. Да… А чем торгует? Коврами. Пушными изделиями. Нарисуй ее на ковре-самолете. Или белочкой с пушистым хвостом.
— Да, втянул я вас в авантюру, — покаялся Кукушечкин, вытирая носовым платком очки. — Это какой-то шабаш.
— Это тебя Ленка расстроила, — с коварным добродушием дьявола открыл ему глаза на причину плохого настроения Сундукевич.
Кукушечкин нахмурился:
— Ленка здесь ни при чем. У меня этих Ленок, сам знаешь, сколько было. Я уже из этих с двумя свидание имел.
— Зацепило! Зацепило! — обрадовался Сундукевич. — Казанова! А знаешь, кстати, кто придумал Казанову? Сам Казанова.
— Помолчал бы, старый волокита, — без настроения огрызнулся Кукушечкин.
Сундукевич гордо поднял голову и с достоинством отмел намеки:
— Импотенты не изменяют.
Подумал и добавил торжественно и веско:
— Ни женам, ни Родине!
Он посмотрел на мрачного товарища и сжалился:
— Ты ее тоже зацепил. Знаешь, что она о тебе сказала?
— Знаю! — взревел Кукушечкин.
— Тихо, тихо! — осадил его, как ретивого скакуна, Сундукевич, но не удержался, чтобы не подразнить. — А все-таки она тебя обскакала. Запомни, Гоша, если мужчина бросает вызов женщине, он всегда проигрывает. Это правило не знает исключений. Не расстраивайся.
— Слушай, Марк, помолчи, а?
— Ой, какой страшный! Не надо так глаза пучить. Лопнут.
— И чем она тебя так очаровала, старый плут? За сколько портрет продал?
— Злой ты, Гоша. Злой и несправедливый. Правильно она тебя бросила. А таким людям, чтобы ты знал, я портреты не продаю. Таким людям я портреты дарю.
— Каким это таким? Каким это таким?
— Хорошее пиво, — сказал Дрема, — зря вы пива себе не заказали.
— Красавица, — остановил Сундукевич проходившую мимо с задумчивым видом официантку, — где наша форель? Надеюсь, вы послали за ней людей с удочками?
Дрема сделал очередной глоток из запотевшей кружки и, просветлев глазами, сказал мечтательно:
— Все мы неудачники.
— Лично я себя неудачником не считаю, — посмотрев на него с большим подозрением, холодно сказал Кукушечкин.
— Все люди неудачники, — настаивал на своем Дрема. — Все, без исключения. Даже олимпийские чемпионы. Даже лауреаты Нобелевской премии. Все, кроме идиотов, конечно.
— Это почему?
— Потому что люди.
— Ты ошибаешься, — возразил Сундукевич, — все люди, без исключения, счастливые. Только они об этом не догадываются. Зависть все портит.
Принесли форель.
— А вот интересно: если бы ты не знал, что это форель, если бы тебе глаза завязали, ты узнал бы, что это форель? — спросил Сундукевич.
— Фррр! Конечно, — отвечал Дрема.
— А по мне все равно: форель, карась. Карась по мне даже вкуснее, — сказал Кукушечкин.
— Вот! — торжественно поднял вилку Сундукевич. — Вот о чем я говорил! Карась вкуснее форели. Ешь своего карася и будь счастлив. Но если я ем карася, а Кукушечкин форель, я уже не могу быть счастливым. Почему?
— Георгий Иванович, а что это за история с «Авророй»? — спросил Дрема.
— О, это еще та история! — оживился Сундукевич, не обращая внимания на грозно сдвинутые брови Кукушечкина.
— Марк, а не пошел бы ты?
— Куда это?
— Не пошел бы ты в домашних тапочках на Эверест.
— Извини, Гоша. Если я сейчас не расскажу эту историю, я умру. Ты хочешь, чтобы я умер? Выбирай: или сам рассказывай, или расскажу я. Или умру.
— Предатель ты, Сундукевич!
— Импотенты не предают, — быстро парировал несправедливое обвинение Сундукевич, вдохновляясь. — Слушай, Дима, как Кукушечкин себе харакири сделал.
Было это… Да, давно это было.
Но Кукушечкин уже тогда Кукушечкиным был.
Ни одной жучки во всей республике не было, которая не знала бы, кто такой Кукушечкин.
Ох, его уважали! Ох, его боялись! Скажи, Гоша.
— Пошел пивом капусту поливать. Болтай, болтай, мы сказки любим, — отвечал Кукушечкин сердито.
— Если Кукушечкин выезжал в командировку, вся область тряслась и дребезжала, — продолжал Сундукевич, — в аптеках весь валидол раскупался. Вся область волновалась: зачем едет Кукушечкин, казнить или миловать?
Не Кукушечкин, а рука Господня.
Приезжает. Левой ногой главный кабинет открывает. «Здравствуйте, Георгий Иванович! Очерк или фельетон?» — «Очерк».
Уф, от души отлегло!
Везут его на белой «Волге» к герою. Побеседует с ним Гоша, а прощаясь, и говорит: «Много не обещаю, а «Дружба народов» будет».
Но все больше Героя обещал.
И никогда не ошибался.
Приедет в другой раз. «Очерк или фельетон?» — «Фельетон. Везите меня к этому негодяю, бывшему первому секретарю такого-то райкома партии». — «Помилуйте, Георгий Иванович, да отчего же к бывшему?»