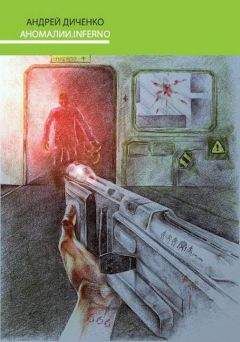Андрей Диченко - Ты — Меня
— А мне будет больно? — спросила девочка.
— Боли нет! — ответил ей пацан, который нес ее. — Или же весь мир — боль.
[Боль — неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани, а также нарушением душевного равновесия]
Остальные парни достали желто-черный тюбик клея «Момент» и шприц. Вынув поршень, парни выдавили в емкость шприца несколько кубиков клея. После поршень был возвращен на место, и подвальный медбрат присел рядом с Тоней.
— Просто оно нам приказало, — сказал мальчик и вонзил иголку под тонкую кожу юной девочки. Тоня закрыла глаза и почувствовала, как светлый шар добра внутри внезапно побагровел и начал излучать боль. Но она не ощущалась на телесном уровне, потому что эта боль стала ее частью, элементом антиматерии, в которой работают противоположные физические законы.
Когда местный бомж по кличке Сиплый зашел в подвал, то учуял странную вонь (несмотря на то, что сам вонял похлеще любого мусоровоза). Поставив бутылку дешевой водки на землю, он зажег спичку и увидел лужу зеленой слизи, которая своими очертаниями напоминала оттиск лежащего человека. Почуяв неладное, Сиплый поднял бутылку и решил передислоцироваться в другой подъезд.
Марыся, чернобровушка моя
Марыся проснулась и, зачерпнув ковшом холодной воды из чана, посмотрела в окно. Вдалеке, возле старого березняка, возились солдаты. Мимо них напыщенно расхаживал русский унтер-офицер и искусно бранился.
Приложив ладонь ко лбу и прищурившись, Марыська разглядела, что, скорее всего, солдаты собирают березовый сок. Один из них, будто ощутив на себе взгляд девушки, обернулся. Задернув занавеску, Марыся переоделась и вышла в сени.
На улице в лицо ей дунул свежий мартовский воздух. Сделав несколько шагов по сырой, еще не согретой скупым весенним солнцем земле, она увидела, как из соседней хаты выходили солдаты. За ними в дверях показался и сам хозяин дома — дед Зянон.
Увидев печальные глаза старца, Марыська забеспокоилась. Солдаты же смотрели на ее прекрасный стан, но девушка не замечала взглядов этих пришлых вояк.
Дождавшись, пока взвод уйдет в расположение военного лагеря, она отворила калитку и подбежала к престарелому человеку.
— Что они хотели, дедушка? — взволнованно спросила Марыся.
Дедушка тяжело вздохнул и, вытерев пот с бледного лба, поникшим голосом ответил:
— Вацлава искали…
Марыська ничего не сказала. Вероятно, юного повстанца уже просто не было в живых, и теребить раны старого человека сейчас просто кощунственно. Вернувшись в дом, Марыська посмотрела на запыленную икону в углу и прошептала: «Кастусь, ты ведь тоже где-то там…»
Закрыв лицо ладонями, она расплакалась.
* * *Иван сидел на гнилом пне и с серьезным выражением лица чистил свое ружье, как вдруг взъерошенный подпоручик, галопом бежавший по весенней грязи, завопил на весь гарнизон: «Депеша от командующего Виленским военным округом!» Тут же солдаты все как один встали в строй, восприняв слова офицера как приказ. Встав перед шеренгой, командир снял мятый картуз и сперва отдышался. Облокотившись на большую деревянную бочку с водой, он громким голосом произнес: — Радуемся, друзья! Почтенный граф Николай Муравьев сообщил о поимке Калиновского! — расплывшись в улыбке, подпоручик радостно вскрикнул: — Восстанию конец! Польша и Литва вновь наши!
Услышав победные вести, солдаты принялись о чем-то между собой перешептываться.
— Господин фельдфебель, разрешите обратиться? — робко произнес рядовой Игнат, обратившись к Ивану. Не дождавшись утвердительного ответа, он продолжил:
— Неужели конец этой бойне наступит всей?
Иван, будучи опытным воином, знал, что смерть Калиновского, конечно же, положит конец бунтующей Польше, но, скорее всего, в Северо-Западном крае еще долгое время будет неспокойно.
Будучи совсем молодым и не прослужив в армии еще и года, рекрут Игнат надеялся, что для него это будет первая и последняя война и Александр II не втянется в военные авантюры, подражая своему отцу.
Бывалый Иван в ответ просто кивнул головой. Закинув ружье на плечо, он отправился пешком к деревне, расстегнув тяжелый и изрядно испачканный в грязи мундир. Тем временем солдаты с молчаливого позволения командования занялись организацией будущего пира.
* * *Подойдя к Марыськиной хате и распахнув сломанную калитку, Иван три раза стукнул кулаком по ветхой деревянной двери. Отворив, Марыська впустила в дом солдата.
Иван наклонился к ней и поцеловал в смуглую щеку. Она же обеими руками обняла его за шею и что-то нежно прошептала. Словно кошка, она головой коснулась его грубой щетины и закрыла глаза. Он же гладил ее по длинным и слегка вьющимся черным как смоль волосам.
— Ты где был так долго? — спросила она томным голосом и, откинув голову назад, посмотрела на заправленную кровать.
— Да со своими был, делами ратными был занят… — Он взял Марыську на руки и, сделав несколько шагов, положил на перину.
— Мой ты солдат императорской гвардии… — сладострастно произнесла девушка и, как только грубые руки мужчины прикоснулись к ее юному телу, блаженно застонала. Иван же, взбудораженный ее речами, принялся грубо снимать с нее простые крестьянские одеяния. Вскоре их обнаженные тела переплелись в любовном танце, и, забыв про польское восстание, вешателя Муравьева и восторженные речи царя Александра II, они предались втайне своим грешным утехам.
Дед Зянон же, заприметив русского солдата, вошедшего в дом к Марыське, сидел у окна и прислушивался к странным звукам, доносившимся из покосившейся хаты, производившей впечатление оставленного жилья. Затаив злобу на Марыську, он намерился доложить о неподобающем поведении Ивана подпоручику. К тому же дед один из немногих знал о том, кто такая Марыся и что можно сказать командованию, чтобы Ивана подвергли наказанию.
После отменного блуда с русским солдатом, кареокая Марыська лежала у него на плече и ладонью гладила могучую грудь.
— А у тебя есть там… — она задумалась и продолжила: — Там, откуда ты пришел, у тебя есть любимая?
Иван зажмурился, вспоминая родную саратовскую землю и дочь богатого помещика Глашу, о которой, будучи юношей, он мечтал и которая была для него такой же недосягаемой, как Париж, Константинополь и другие диковинные и неведомые ему города. Он мечтал, что когда-нибудь выучится грамоте и напишет Глаше большое и красивое письмо. Но после рекрутского набора и зноя крымской службы все светлые мечтания смешались в одну кашу с кровавыми буднями и вечным страхом быть либо убитым, либо остаться изуродованным на всю оставшуюся жизнь.
— Там у меня уже, наверное, никого нет… — после минуты томных раздумий произнес Иван.
— Это ты, значит, со мною первою вот так вот делаешь? — спросила она, рассматривая тусклую икону. Сердечко ее при каждом взгляде на лик святого начинало колотиться все быстрее и быстрее. В такие мгновения успокаивало ее лишь уверенное дыхание Ивана.
Фельдфебель, услышав подобный вопрос, нахмурился и ничего не ответил. Он повернулся головой к окну. В лучах солнца лицо его казалось помятым, усталым и каким-то беззащитным.
Где-то вдали доносились радостные крики, а солдаты начали запев строевой песни.
— У вас сегодня праздник, что ли, какой-то? — Марыська решила перевести разговор в другое русло.
— Калиновского словили… — произнес он, сомкнув глаза. Марыська, услышав запретную фамилию руководителя польского восстания, побледнела. Решивший вздремнуть, Иван не заметил этого внезапного изменения в настроении своей случайной возлюбленной.
— Кого?.. — подавленным голосом произнесла Марыська. — Кого словили?
— «Яську, гаспадара з-пад Вiльнi», черт бы его побрал, — язвительно произнес Иван и зевнул.
По щеке Марыси покатилась слеза. Она представила его, своего Кастуся. Невысокого, всегда с серьезным взором, боевого бровастого мальчишку, одержимого идеями о спасении всего мира. Как же это он один смог бы противостоять всем эти могучим Иванам с их лейб-гвардиями, мортирами и нарезными ружьями? Где же он сейчас? Вероятно, в темнице в городе Вильно, а генерал-губернатор Муравьев жрет водку в окружении высшего имперского командования и кривой подписью приговаривает героев к смерти.
«Вешатели», — произнесла она шепотом. Едва сдерживая себя от накатывающих, словно штормовые волны, всхлипов плача, она представила своего Кастуся — помрачневшего, но отнюдь не сломленного. До этого момента она думала, что ее Костя уже умер или прячется где-нибудь в Европе, вдали от этого самоуправного царизма.
«Я ведь тоже почти Калиновская», — произнесла она про себя и отвернулась от Ивана. Тот уже уснул.
«Где-то за печкой лежит топор», — подумала она, не осознавая, что хочет совершить убийство. Но сию же секунду в дверь постучали. Иван вскочил, Марыська жестом ему указала на печь, за которую следовало спрятаться. Накинув на себя платье, Марыська подошла ко входу и, отворив дверь, удивилась. Это был всего лишь почтальон. Он протянул пожелтевший бумажный сверток, попрощался и пошел куда-то дальше с висевшей через плечо толстой кожаной сумкой. «Из Вильно, — прошептала Марыська. — Неужели?..» Забыв про Ивана, она развернула письмо и, прочитав первые четыре строчки стихотворения, разрыдалась.