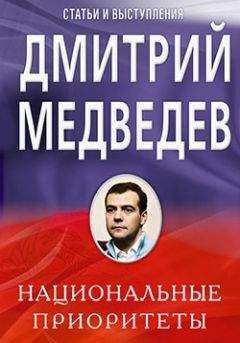Ефим Ярошевский - Провинциальный роман-с
— Видишь ли, я должен видеть, в чем там дело. Пока я не вижу. Мне не ясно, что там у них произошло… Было бы, конечно, хорошо, но я отказываюсь. Не надо на мне настаивать.
И ушел.
— Ах, свинья. Ах, какая же он свинья!
Но такая искренность обезоруживала. Никто не сомневался в том, что произошло что-то нехорошее, что-то не то, все изъявляли готовность наказать преступника, но дей-ствовать не торопились. Действовать было уже почти невозможно. Весь пыл был истрачен на обсуждение и дебаты. Даже отец Павел махнул на все рукой. Но совесть взывала к возмездию…
— Кто это здесь говорит о совести? Все меня предали… Один Додик со мной. Додик пуличку не предаст.
Потом решил: сам. Сделаю все. Убью. И отдамся в руки властям. Только так оправдаю звание человека.
Прошло восемь дней. Выяснилось, что случай с кем-то повторился, и преступник был задержан… Наконец-то, как гора с плеч. Все облегченно вздохнули. Смело можно было расслабить свою напрягшуюся совесть… Но долго еще потом шли, тревожно оглядываясь, не следит ли кто. Не разгадал ли кто наших замыслов? Не посягнет ли кто на наших дам? Не подумает ли кто чего?
Глава 3. Я становлюсь пасквилянтом
В ушке дамской булавкой ковыряя, говорил, мучительно морщась:
— Пошляк твой Гриша и зад имеет широкий. Он-то его и тянет к земле. Когда у человека большой зад, это о многом говорит. Зад легкий, поджарый, нервический — другое дело. Тут подразумевается дух: некая духовность, жовиальность, полет! Необремененность обедами, кишечная свобода. Наконец, склонность к поносу, к жизни на ветру. Уверяю тебя, это верный признак. А у Гриши… Нет, совсем не то.
Все было настолько стройно, убедительно, что возразить было решительно нечего.
— И поэзия его, если угодно, носит на себе печать его зада. Да, да.
— Ты имеешь ввиду насиженность?
— Что-то в этом роде.
— А лирика?
— Не верю. Подозреваю, что анальная эротика.
Бродский Леня говорил мне как-то:
— Все мы боимся умереть под забором. Отсюда все наши беды, трусость. Капризные дети цивилизации. У нас ложные представления о приличии. Все мы боимся остаться без костюма. А накрашенные женщины — это особенно противно… Посмотри, как люди не уважают друг друга в трамваях. Хамство. Руки кладут тебе на плечи. Я им говорю: не прикасайтесь ко мне. Это неприлично. Никакого внимания. И дышат при этом в лицо. Я уверен: Чехов никогда бы не стал ездить в наших трамваях. Это же орангутанги.
В конце концов, чего вы хотите? Оставьте меня, наконец, в покое! Я вам не обязан. Чего вы пристали? Все это рассказывать мне надоело. Устал я вас смешить, устал я вас забавлять. И хватит. И баста.
Пристали, в самом деле. На меня наседают. От меня требуют! От меня требуют кредо. Кредо, кредо! Подавайте им кредо. Не больше, не меньше. Кредо. С какой стати я должен дарить вам свое кредо? Дурачками представляться нечего. Сами отли-и-ичненько понимаете, что к чему. Нечего прикидываться. (Отлично понимаете, что по чистой совести, от всей души идиотами вас считаю). Хотя и скорблю… Так чего ж приставать? Кредо, кредо. Фиг вам большой, а не кредо.
А хотите правды — извольте. Получите. Дайте только слегка подсобраться.
— А Шурика ты напрасно любишь. Напрасно. Я о нем такое знаю… Конечно, я его уважаю, этого не отнимешь. Но он стал дружить с Гришей и гибнет. Так что не надо идеализировать.
— Собственно, причем тут Шурик? Бред собачий. Все равно он лучше тебя.
— Это еще как посмотреть. С какой стороны.
— А чего тут смотреть? Все и так ясно.
— Судак ты, как я посмотрю.
Ушел. Обиделся.
Потом вернулся, крикнул:
— Подонок он, вот он кто.
И ушел.
Ах, что делается, что только делается! Я становлюсь пасквилянтом. Я заразился. Я стал лицемером.
Мне грустно. Я хочу любить и верить. Но наступать себе на мозоль самолюбия я не дам. Я хотел бы это подчеркнуть.
Оставьте меня все. Я выдумываю любезный мне роман. Роман о моих знакомых. Я их критикую. Но, вместе с тем, я их утешаю. Я делаю им больно и приятно. Я им делаю щекотно. Я делаю им интересно. Я всем делаю пикантно и где-то местами остро.
А вот и Юра:
— …А, это вы? Привет, привет! А я был в гостях у пианиста. И ел суп из скорпионов. Очень вкусно. Деликатес для вегетарианцев. Удивляюсь, почему скорпионов не продают на экспорт? Как рыбу. Нам бы платили за них валютой. Представляешь!… Тиару, тиару! Пора надеть тиару! Все станут католиками. Ору: оранжа! оранжа! А госзакон твердит: безнравственно и нельзя. Странно… Все подводные лодки мы купили у Италии. А свои потопили. Представляешь?
— …Зачем вы держите в доме Рэя? Это негигиенично. Лучше проветривайте дом хлорофосом… А стихов поменьше, поменьше. Все это отвлекает.
— …Я смотрю на людей, и мне смешно: они все пьют газированную воду. На это у них уходит полжизни. А ведь можно совсем иначе: не пить вообще. А так, мысленно, мысленно. Одним усилием воли. Как Джойс… Все суета сует.
— А ты, Фима, поправился. Да, да, не говори — заматерел ты. Брось, брось — поправился. Я же вижу. И ляжечки у тебя стали… А спина — просто спина захолустного Антиноя. Молодец… И папочка тоже. Совсем округляться стал. Жизнь тебе идет на пользу… Ну, ладно. Так о чем я? Зачем, собственно, я к тебе пришел?… Ага, вспомнил. Понимаешь, надо помочь человеку.
— Я слушаю.
— Надо помочь человеку. Он художник. Ты его не знаешь… Три дня не ел. Скитается. К тому же, избили в вытрезвителе. Короче, нужно пятьдесят копеек.
— Всего?
— Как минимум.
— Ну, полтинник — это можно.
— Мерси. Я пошел. Он тут внизу стоит. Я просил его не заходить. Вид у него, знаешь ли. Ну, ты понимаешь… Пойду — накормлю.
И ушел.
(Однажды пришел с аналогичным предложением:
— Тут у меня два художника сидят. Совсем опухли. От голода, в основном. От пьянства — частично. Короче: нужен рубль.
Я не дал).
Глава 4. Впечатлений масса
Ночью, под звездами, душа одинока и беззащитна. Теперь я вспомнил, когда это было.
Мне было двадцать лет. Душа раскрывалась, наливалась холодным небом, чисто вымытой высью, высоким ветром, тоской, слезами, одиночеством. И мне показалось, что у меня никого нет, кроме этого неба. О, отдаться, отдаться этому ветру, этому небу, которое одно есть правда, которое одно сродни моей душе, и душа об этом догадалась. Поэтому я плачу от безмерной печали, утолить которую может только любовь… или не может утолить ничто. И не надо, не надо.
Я мстительно плакал, глядя в это небо, потому что знал в эту минуту, что никого нет лучше меня и несчастней. Так пусть же, пусть никто не знает этого, тем горше они раскаются потом.
Я смотрел вверх и чувствовал, что здесь начинается истина, здесь, высоко, скрыто мое высокое предназначение, тут, с звездами наедине, постигается нравственный закон… Луна плавала в весеннем небе, как тающая льдинка, как обломок чего-то, что было когда-то большим и ярким. Луна иссякала, таяла, умирала высоко над пустыней города, уносила меня с собой — наполняла глаза каплями слез, делала меня свободным и зрячим, сжимала мне горло.
— Ну, расскажи, Аркаша, что там, как? Почему? Расскажи все.
— Рассказывать можно много! Впечатлений масса. Но не это главное. Главное, что я приехал и понял, какой здесь ужас… Я не хочу сейчас говорить о Петрограде. Но здесь — и это ощущается так явственно! — здесь душный, спертый воздух провинции, воздух сортира. Там хоть какая-то свобода, какая-то возможность высказаться. А тут, в Эдессе, какой-то ужас. Все напряжены, недоверчивы. И пугливы. Теперь, после поездки, Эдесса кажется мне просто клоакой: милой, уютной клоакой. Ужасно… И еще: ты заметил, что все, кто в Эдессе пишет (а таких здесь большинство), — никто не относится к своим писаниям серьезно? Какое-то дилетантство. Что-то очень несолидное. Как будто никто в то, что пишет, не верит. У меня такое впечатление. И это тоже ужасно. Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что я прав… И потом: почему в Эдессе запрещены дуэли? Это было бы так красиво. Скольких дураков поубавилось бы.
— А не наоборот?
Какие— то тени, призраки мелькают передо мной, мельтешат. Зачем они ко мне ходят? Зачем они кушают мой воздух? Я не могу их долго кормить сухим кормом. Скоро он весь выйдет, и надо будет давать им живой. А где я его возьму?
Зачем это все нужно? Зачем они заглядывают в глаза искусству, они — ленивые, нечестные, похотливые, слабо начитанные люди? В глаза Тому, чей взгляд им вынести не дано?
Но, может быть, я неправ. А наоборот, правы они? А? Бог знает, что я говорю.
Олежек мне говорил:
— О, эти художники — кало-ритнейший народ. Ох, кало-ритнейший! Ты посмотри, какое разнообразие! Один Лещ чего стоит. А Тюльпан? А Мока? Гаусбрант?! Это же черт знает. Каждый — целая поэма, прости за банальность. В самом деле, смотри дальше: Ануфриев, Стрельников, Паринюк! Ну, эти еще тихие. Относительно. Но ты бы послушал, как фонтанирует Гаус (если он в ударе), или Мока. Каскад. Фейерверк! Послушай, я забыл Сыча! Как я мог забыть Сыча? Надо их только послушать. Жаль, что ты их мало знаешь. Не матерьял, а объядение. Ну, ничего. Ты только раз попади с ними в одну компанию. И кайф плюс груда фактажа тебе обеспечены… А скольких я еще не назвал! И не разбрасывайся. Займись одним — и выжимай, выжимай сколько влезет. Это должно быть дьявольски интересно.