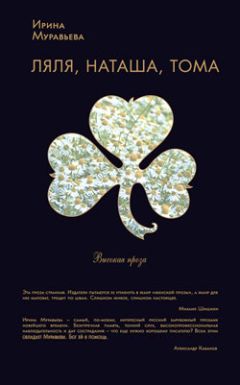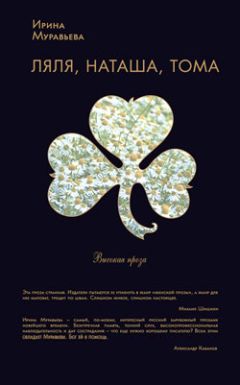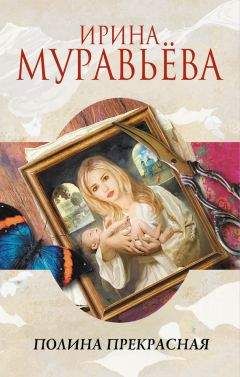Ирина Муравьева - Ляля, Наташа, Тома (сборник)
Она вылетела, хлопнув дверью. Опустилась на первый стул. Закашлялась. После обеда ее вызвали в отдел кадров. Приказ об увольнении был подписан.
Снег тает. Окна слепнут от солнца. Мы с папой едем в пропахшем бензином автобусе, и я спрашиваю его с негодованием, чувствуя, как сердце разрывает мне горло:
– Но как, как она могла так расстроиться, чтобы заболеть и умереть? Как? Ведь у нее же была я? Разве она не любила меня?
У меня горит лицо, и я задыхаюсь, прижимаюсь носом к автобусному стеклу в весенних потеках.
– Тебе двенадцать лет, – говорит он устало. – А ты рассуждаешь как маленькая. Никто про тебя не забывал. Пока этот мерзкий порядок не затронул ее, ей трудно было представить, насколько он мерзок. Она витала в облаках, и наконец эта подлая дурацкая история открыла ей глаза. Удивительно, конечно! Вырасти в такой семье и на поверку оказаться столь беспомощной, столь наивной. Удивительно, невероятно! Но она действительно переживала настолько сильно, что уже ни о чем другом не могла думать. Она сгорела. Больному сердцу ведь немного надо, чтобы…
Он умолкает. В автобусе пахнет бензином, окна слепнут от солнца.
…Она уже не ходит на работу, и тапочки сиротливо краснеют у постели, на которой она сидит, опираясь на гору высоких подушек и кашляя. Мы с Валькой входим в комнату, где топится кафельная печка и пахнет лекарствами. Мы запорошены снегом и разрумянены. За окнами скребут дворники. Она отводит от лица тяжелую каштановую прядь и спрашивает Вальку:
– Холодно на улице? Она не легко одета?
Похудевшая строгая Наташа входит следом и говорит спокойно:
– На улице чудесно. Тепло и пахнет весной. Хватит тебе болеть!
Она кашляет.
Я леплю снежную бабу. Толстой, как всегда, за мной присматривает. Валька сидит на санках, окруженная подружками, и всхлипывает:
– Томка вчера мне свою шапку каракулевую подарила. Говорит: «Я все равно лежу, а поправлюсь, так зима кончится. Покрасуйся». И подарила. Кашляет, разрывается. Два профессора вчера были. Частники. Дядь Кость за ними на такси ездил. Говорят: сердце. А кто ж, девчат, от сердца кашляет! Врут, поди, деньги вымогают! А я выскочила на заре в сортир, смотрю, в кухне на табуретке дядь Кость сидит, голову обхватил руками и плачет. Боимся мы. Ужинать сядем, и кусок в горло не идет. Завтра последний анализ сделаем и решать будем, в больницу класть или чего…
Старенький сухой доктор с печальным еврейским профилем долго отряхивал снег с калош. Величавая Катя проплыла в свою комнату с блюдом кривобоких пышек.
– Позвольте мне вымыть руки.
Он печально приподнял брови и прошел на кухню. Папа шел за ним с полотенцем. От волнения акцент его опять усилился.
– Она очень переживает одну отвратительную служебную историю. Она слегла от нее. Я вас прошу: поговорите с ней как специалист, объясните ей, что…
– Мы от жизни не лечим, голубчик, – скорбными глазами он посмотрел прямо в папины, испуганные. – А от такой жизни тем паче…
Она кашляла, а он слушал, выстукивал, считал пульс и хмурился.
– Меня сегодня утром участковый симулянткой назвал, – и она рассмеялась, отводя каштановые волны с лица. – Сказал, что мне болеть просто выгодно. Интересно, почему мне это выгодно?
– Хамы… – он улыбнулся ей. – Не обращайте внимания. Нельзя принимать все так близко к сердцу. Оно этого не любит.
…Как он уцелел, этот старенький сухопарый доктор, единственный из всех понявший, как серьезно она больна, как он, с его скорбным карим взглядом, дотянул до относительного благополучия пятьдесят пятого года?
«Только один человек, не профессор даже, просто врач из клиники, заподозрил то, что потом подтвердилось на вскрытии, – папа страдальчески морщится. – Он только что вернулся из лагеря, только что был допущен к работе. Маленький такой старик, еврей. Он очень хмурился, осмотрев ее, и сказал нам…»
Что он сказал?
Они стояли вокруг стола – дед, бабуля, папа – и ждали. Он хмурился и думал. Потом произнес:
– Тяжелое положение. И надо в больницу. Срочно, немедленно. Странно, что ее до сих пор не госпитализировали. Позвоните мне утром на работу, я попробую завтра же положить ее к себе. Боюсь, что нужна операция.
Печально посмотрел в папины запрыгавшие зрачки:
– Вы не оставляйте ее одну ночью. Подежурьте. Чтобы не пропустить, если что…
Ночью она умерла.
Туман. Я бреду в нем с сухими глазами. Я одна. Ее нет. Я пробираюсь к ней сквозь сомкнутые годы, и все повторяется: туман, туман, туман, гора белых подушек, красные тапочки, свет…
«…моя жена не была больным человеком в прямом смысле этого слова… За три года до своей скоропостижной кончины она легко и благополучно родила совершенно здорового ребенка…»
Мы с папой едем в автобусе. Солнце слепит.
– Скажи мне только: если бы не это , она жила бы?
У меня перехватывает дыхание от невыносимой мысли: если бы не это , она бы…
В церкви было много народу. Любопытные старухи с вытекающими глазами толпились в дверях, перешептывались:
– Молодая совсем. Годков двадцать пять будет. Замужняя. Вон мужик-то ее. Кудрявый! О-ох! От судьбы не уйдешь!
А я? Я гуляла с распухшей от слез Валькой, ничего не зная. Я лепила снежную бабу из последнего мартовского снега, пока ее отпевали и прощались с нею. Я искала в колючем сугробе свою лопатку, пока папа, не отрываясь, смотрел на ее изменившееся лицо. Ночевали мы с Валькой у знакомых.
– Ангел, ангел и была, – мрачно говорила Матрена на кухне. – А ангелов Бог завсегда к себе береть. Они ему там сподручнее… А здеся чего? На нехристев вкалывать, прости, Господи, меня грешную!
Да. Но почему одновременно с мамой исчезли из моей жизни и Ляля с Наташей?
– Я останусь здесь сегодня. Переночую, – сказала Ляля неподвижной, совершенно черной Наташе.
Поминки кончились. Они вымыли посуду, протерли пол.
– Иди домой. Я останусь.
И Наташа ушла. А Ляля осталась. Она легла на раскладушке в комнате, вскоре переименованной в «папину». Из маленькой, смежной, в которую скрылись дед и бабуля, не доносилось ни звука. Папа молчал, а она рыдала, вжимаясь в подушку. Потом стала успокаивать его, хотя он молчал.
– Я все время буду с вами, – рыдала она. – Мы ее вырастим! Мы ее вырастим так, как если бы Томка была жива. Я буду с вами, ты слышишь? Кто мне дороже на свете?
Под утро она заснула. И проснулась от дверного скрипа. В матовой рассветной белизне стояла моя бабуля, одетая так же, как накануне, а за ее плечами, наглухо застегнутый, стоял дед, и они были похожи на две вытянутые бесплотные тени.
– Ляля, – сказала бабуля ровным голосом. – Иди домой. Я не могу вас видеть: ни Наташу, ни тебя. Ее нет, и мне никто не нужен. Я справлюсь сама. Она приходила ко мне и просила не оставлять девочку. Она приходила ко мне сегодня ночью. Я не спала. Я обещала ей. И мне никто не нужен. Я не хотела жить, но она плакала и умоляла меня. Значит, будет так, как она хочет. Иди, Ляля. Я не могу вас видеть: ни Наташу, ни тебя.
Повернулась и ушла. И дед, не проронивший ни слова, приблизился к Ляле, поцеловал ее в потемневший пробор и ушел тоже.
Какой снег! Мир расползается под моими варежками, как намокшая вата. Взъерошенный воробей в белой наколке перепрыгивает с ветки на ветку. Голоса кажутся мягче, медленнее и увязают в слепящем белом месиве вместе с моими валенками, воробьиными лапками, папиными остроносыми башмаками. Мы спешим в театр. Разве, умирая, я посмею сказать себе, что не была счастлива в этой жизни, на шестом году которой было воскресное утро, заваленное снегом, и новое платье с кружевным воротником, и красный бархат ложи, куда мы вошли, как всегда опаздывая, когда уже погасили свет, и поэтому я не обратила никакого внимания на просиявшую улыбкой чернобровую красавицу, повернувшую голову нам навстречу?
Дети бредут по сцене в поисках Синей птицы. Мне интересно, только немножко неприятно, что их умершие дедушка и бабушка разговаривают с ними как живые, расположившись на куске плотного белого кружева, отдаленно напоминающего облако. Мои дедушка и бабушка живы, никогда не умрут и ждут меня дома. В театре тепло, темно, пахнет духами и апельсинами. Мое новое платье с кружевным воротником – самое красивое на свете.
Зажигается свет. Антракт. Чернобровая худая красавица с мокрыми от застывших слез сияющими глазами целует меня и крепко прижимает к груди мою голову. Папа напоминает мне, что ее зовут Наташа. Она, не отрываясь, смотрит на меня – радостно, жадно, словно не может насмотреться. Потом мы идем в буфет, и глаза мои разбегаются от разноцветных пирожных. Нет, лучше шоколадку. Со сказками Пушкина. Там, где все на обертке: и дуб с цепью, и старик с неводом, и Людмила в кокошнике, и говорящий кот…
А потом мы едем, нет, плывем сквозь медленную белизну, сквозь печальный печной дым, сквозь стеклянные деревья, мы плывем и приплываем в большую полуподвальную комнату с белоснежной занавеской на окне, с круглым столом под белоснежной скатертью, который ломится от пирожков, конфет, чашек, чашечек и вышитых салфеток с голубками и незабудками. Вокруг стола суетятся две полные сырые старухи, похожие на уток, и кудрявая, круглолицая, смешная женщина, которая, едва увидев меня, бросает все, зацеловывает мою холодную заиндевевшую голову в капоре и так же, как Наташа, прижимает ее к груди. Мы пьем чай, и я внимательно разглядываю эту комнату с ее фотографиями на стенах, темным скрипучим буфетом, соломенным креслом, из которого торчат прутья…