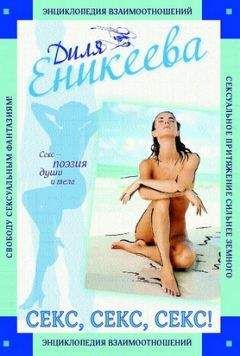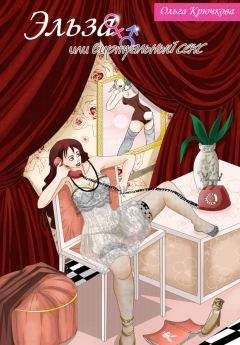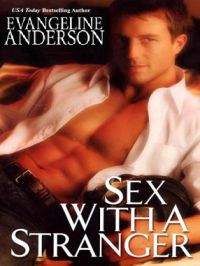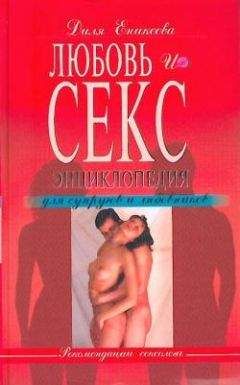Эржебет Галгоци - Церковь святого Христофора
Но перед одной мраморной доской она все же остановилась — свежо и ярко блестели на ней золотые буквы надписи:
«Здесь покоится супруга Калмана Семередь Семереди, урожд. баронесса Амалия Агашвари. 1885–1947».
— Тысяча девятьсот сорок седьмой, — повторила она задумчиво. — За нее, что ли, боится господин декан?.. Но почему?!
Она еще раз внимательно оглядела склеп и тут обнаружила в потолке продолговатой формы вырез, проем, заложенный большой мраморной плитой. Плита не зацементирована, ее можно поднять. «Ага! — сообразила Жофия. — Вот сюда и опускали гробы. А в церкви на полу ничего не заметно, плита закрыта той красной кокосовой дорожкой.
Вдруг ее пробрала дрожь, и она поспешила вон из склепа.
Завечерело. В парке пахло мохом, на сельской улице запах зрелого зерна смешивался с ароматом малины. Женщины болтали, помахивая пустыми молочными бидонами, детишки искали на темной площади закатившийся мяч, шумная веселая компания выплеснулась из корчмы на улицу. Жофию охватило вдруг острое желание жить вот так, как они: чистые, без позывов к тошноте, рассветы, на завтрак — парное молоко, потом тяжелая, бездумная физическая работа, вечером легкая разрядка на улице, в молочной, в корчме и здоровый, без сновидений, сон…
Дом тетушки Агнеш стоял темный, не светился даже голубой огонек телевизора. Что случилось? Подозревая дурное, Жофия отворила калитку и перед верандой чуть не споткнулась обо что-то длинное, черное. Показалось — гроб. Она отпрянула, обошла его и включила лампу, освещавшую двор. На красной раскладушке под толстой дерюгой лежало тело. Покойник?!. Из-под дерюги послышался тихий жалобный плач. Она отбросила покрывало и, ошеломленная, увидела багровое от слез, искаженное лицо тетушки Агнеш. Слезы и сейчас еще лились из ее глаз, напрасно она утирала их большим, совершенно мокрым уже полотенцем.
Жофия наклонилась к ней.
— Что случилось, тетушка Агнеш? Вам плохо? Позвать врача?
— Не могу больше, доченька! Не могу! Не могу! — проскулила старушка, и рыдание с новой силой вырвалось из ее груди.
Жофия беспомощно стояла над ней. Так ты завидуешь сельскому покою — ну вот, смотри же, каков он, этот покой! И это найдешь ты повсюду, только ковырни фальшиво-безмятежный наружный слой. Не одна твоя жизнь трагедия — жизнь вообще трагедия и ничего больше.
В этот теплый вечер под толстой дерюгой у бедной тетушки Агнеш не попадал зуб на зуб.
— Пять лет я за ним ухаживаю. Пеленки подкладываю. Мою. Смазываю все тело мазью, чтобы не было пролежней. Каждый божий день постельное белье меняю, ведь он уж и знак подать не может… А ведь мне нельзя же все только при нем быть… Мне и по хозяйству крутиться надо… И в саду… И в церкви… — Жофия кивала ей: пусть выговорится. — Да ежели б оно впервой, тогда, может, господь мне больше терпения, больше силенок послал. А ведь это уж во второй раз!.. Свекровь мою тоже пять лет обихаживала. Ей девяносто было, склероз мозга, ходить не могла, ноги не слушались… по три раза на дню белье ей меняла. Ну ладно, больная, беспомощная, господи… может, и я такой же бессильной буду, — хотя найдется ли еще кто, чтоб за мною присматривал… Но она же и злая была! Обделается вся, так еще по стене, по наволочке размажет… войду к ней, бывало, пожурю ласково, ай-яй, мама, зачем вы так? А она мне в глаза хохочет… Может, и не понимала, что творит… И так пять лет! Я белье-то ее в стиральной машине стирала, а все одно руки напрочь стерты были… рана сплошная… Однажды пришла младшая сестрица моя, у которой восьмеро детишек-то, она мне всю жизнь завидовала за то, что мне богатый парень достался, — думала, живу я себе, ни работы, ни заботы не знаю. Что уж ты, Агнеш, чего с ней маешься? Не давай ей еды с неделю, говорит. Господи боже мой, отвечаю, да как же я после такого к исповеди пойду?.. Тут-то злорадство ее и вылезло наружу: видишь, Агнеш, я восьмерых детей пеленала, а ты ни единого. Но все ж и тебя судьба наша женская настигла, вон когда с пеленками мучиться довелось… Словно бы мне это в наказанье за то, что господь детей не дал… Да я-то чем виноватая?
Жофия слушала ее со стесненным сердцем. День, что ли, такой нынче — всем на мучение? Декан из-за чьей-то смерти терзается, тетушка Агнеш — из-за своего паралитика-мужа. Наверное, жутко ей с ним, раз здесь легла, а не на своей кровати?.. В голове промелькнуло вдруг, что она даже не заглянула к себе — не знает, пришло ли письмо. Но сейчас это и не казалось столь важным.
Она уговорила тетушку Агнеш раздеться и лечь как следует, как всегда. Предложила ей снотворного, но у старой крестьянки и у самой было вдоволь новейших барбитуратовых препаратов. Казалось, возможность посетовать вволю помогла немного старушке, она поднялась, сложила раскладушку, покрывало и скрылась в комнате больного.
А наутро бедняга не знала, куда деться от стыда. Бледная, с покрасневшими веками, она потерянно толклась на кухне и, когда Жофия, еще в пижаме, вошла, чтоб выпить чаю, неловко попросила:
— Вы уж, золотко, пожалуйста, не рассказывайте никому!
— Ну что вы, тетушка Агнеш! — И Жофия поспешно заговорила о другом. — В церковном склепе я видела могилу Амалии Семереди, ее в сорок седьмом похоронили… Вот этого я не понимаю, тетушка Агнеш. Как с ними было-то, тетушка Агнеш, с Семереди этими? Вы случайно не знаете?
— Как не знать! — Старушка оживилась. Обрадовалась, видно, что можно говорить о другом, не терзаться мыслями все об одном и том же. — Ну, вы, конечно, слышали, это старинное семейство, землевладельцы здешние. Когда-то не только наше село, но и другие села окрест все им принадлежали. Еще дед мой крепостным был у Семереди, потом, как стали землей наделять, крестьянином стал. Вот это все — виноградный холм, на котором дом наш стоит, и Хедьалья, и Эрёгутца, Комловёльдь, Хоргаш — все в имение Семереди входило… Последний Семереди, Калман, здесь уже не жил, он офицер был, проживал в Будапеште. Только лето проводили здесь, в замке. Их и осада в столице застала, они там в Крепости[9] где-то жили, одна горничная ихняя из наших мест была, она и рассказывала… В сорок пятом, в апреле примерно, вернулись они было домой, да застали землю уже поделенной, в замке — комендатура, устроились у корчмаря своего, корчма-то на ихней земле стояла. Какое-то время пытались они отсудить себе замок да парк — мол, господин генерал оттого и был когда-то, в тридцать восьмом еще, на пенсию отправлен, что сторонник англичан был[10], так что сколько-то земли ему положено, в Пеште-де это уж проголосовано, чтоб те десять хольдов, на которых замок стоит да парк, за семейством ихним остались… Так ведь разве ж местная беднота посчиталась с той бумагой за печатями? Деревья уж вырубили, парк чуть не весь распахали, усадебные постройки по кирпичику разобрали, из них себе дома построили… Я тоже купила подводу кирпича, когда разломали их винный погреб, им и вымостили мы дорожки к погребу да к сортиру, вот поглядите как-нибудь, там на каждом кирпиче оттиснуто: «1732 Ж. С.» — Жигмонд Семереди значит.
«Опять эти заколдованные тысяча семисотые!» — с досадой вспомнила Жофия.
— А когда они на Запад уехали?
— В сорок шестом… Как увидели, что здесь только трудом рук своих прожить смогут, так и укатили в Швейцарию. Господин генерал да двое детей его — Феликсу было тогда лет восемнадцать, а его сестре Бланш двадцать. Уж такая страхолюдина была, длинная, как каланча, а ноги прямо черные, все волосом поросли. А барыню… ее ведь у нас так и звали… ну, значит, мать ихнюю… барыню везти с собой не решились, она тяжело болела тогда, думали, позже-то заедут за ней, как она выздоровеет, а через несколько месяцев границу закрыли, барыня тут застряла, а после и померла… Важные были похороны… Поговаривали тогда, что господину декану золота отвалили, чтоб, значит, мраморную доску для нее заказал…
«Навряд ли… золото они скорей всего с собой прихватили», — подумала Жофия и, одевшись, пошла в церковь работать.
Она уже удалила — осторожно, тщательно — облупившийся слой краски и теперь подбирала пурпурный тон для мантии, в точности соответствующий оригиналу. Вдруг она услышала за спиной посапыванье старого священника. Жофия выпрямилась.
— Не смотрите, господин декан, на этом этапе просто безобразно все выглядит. — И, обернувшись, оторопела при виде бледного лица декана, его обведенных синими кругами глаз. — Вы плохо себя чувствуете, господин декан?
— Только этого еще не хватало, — непонятно отозвался священник, грузно протиснулся на переднюю скамью и локтями оперся о пюпитр. Он задумчиво смотрел на эту красивую чужую женщину.
— У вас уже умирал кто-нибудь, Жофия?
— Нет еще, господин декан. И мать и отец у меня, слава богу, здоровы… Я-то однажды чуть было не умерла, но ведь я это я, а не мой кто-то…
— А у меня вот умер сейчас… — Священник искал точное слово; Жофия положила кисть, взяла назначенную в пепельницы пустую банку из-под краски и присела на другой конец скамьи. — …умер — брат мой? союзник?.. товарищ?.. Как хорошо писали встарь: мой ближний…