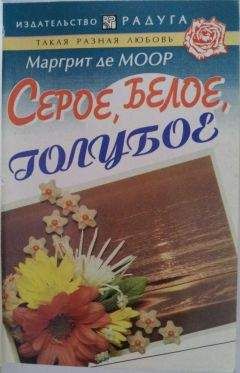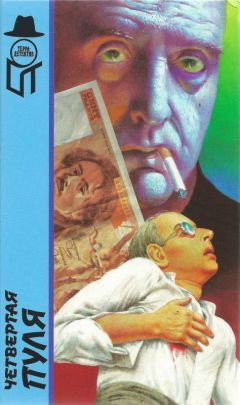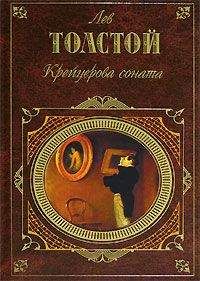Маргрит де Моор - Крейцерова соната. Повесть о любви.
— Прекрасная миссия, — отозвался он.
Мне было понятно, что он хочет снова заставить звучать ее голос. Ради всего святого, пусть она говорит! Он хотел, чтобы ее кожа и мышцы на лице оживали от притока крови и от прямоты, с которой она выражала свои мысли.
Он спросил ее о счастье игры в ансамбле.
В своем ответе она подчеркнула значение опасности.
— Бывает такое ощущение, — сказала она.
Я знал, что сейчас она уже не в классе, а в помещении за следующей дверью — на сцене.
— Но бывает, что все идет, как по маслу. То, чем ты занимался в жизни, весь пройденный путь, репетиции, поиск, раздумья, все соединяется… в мгновении, которое рождается сейчас. Страха больше нет, ты весь — сплошное вдохновение.
Она нахмурила брови, ее ноздри напряглись.
— И? — промолвил он.
— И тогда настолько растворяешься в общей игре, что говоришь себе: “Э-эй, осторожно!”
Она повернула голову в мою сторону и бросила на меня взгляд, который было трудно расшифровать. Помолчав несколько секунд, она сказала: “Ладно, сейчас мне надо сходить наверх. Через десять минут я вернусь”.
И она ушла переодеваться, Сюзанна Флир, та самая, которая только что разговаривала с загадочным слепым мужчиной. Я был уверен, что ей приятно было его внимание, что ее взволновала его трагедия, но что в ее планы отнюдь не входит привлечь специально к выступлению Шульхоф-квартета внимание знаменитого критика, прибывшего сюда для того, чтобы написать статью. Не таким она была человеком. Вообще с этой минуты все пойдет не так, как было задумано. Он вообще ничего не напишет. Мариус ван Влоотен, не утруждая себя объяснениями, не представит обещанную газете “Ханделсблад” статью, посвященную Международной неделе струнных квартетов в Бордо. В тот вечер он по долгу службы еще сходит на первый из двух концертов. Но лишь при условии, что потом, проигнорировав праздничный ужин, он сядет в такси и вернется назад в свой номер в гостинице. Так он обычно делал. Надиктовав на магнитофонную пленку свои беглые впечатления, он привычно закажет себе порцию стейк де Бордо, запьет жаркое половиной бутылки “Шато Ла Роз” и уляжется спать. И потом в очень странном настроении будет слушать грохот грозы, на краткий миг разразившейся над этими краями — от старой башни Монтеня в Перигё до огромных портовых сооружений, там, где Жиронда, разлившаяся в необозримый поток, впадает в Атлантический океан.
Он навис надо мной.
— Скажите-ка мне, — он был полон любопытства, — когда мы с ней говорили, она смотрела на меня или по сторонам, или, может быть, разговаривая со мной, она смотрела на вас?
На меня… Я взял в руки стоявший перед нами на столе почти полный бокал Сюзанны Флир. Выходит, слепота рождает страх или опасение, что и тебя самого не видно, вдруг подумал я. Я ненадолго закрыл глаза и представил себе, каково это, должно быть, говорить с человеком, который про себя думает: “Какое имеет значение, улыбаюсь ли я ему или нет, для чего вся моя мимика, не лучше ли адресовать выражение моего лица кому-нибудь третьему в нашей компании, ведь мои слова слышно и так”. Я допил единым залпом сладковатую влагу в бокале. Вино ударило мне в голову.
— Она смотрела вам прямо в лицо, — сказал я, — со стороны могло даже показаться, что она хочет прочитать ваши мысли.
Она вошла через стеклянную дверь. Мимоходом помахала нам рукой, направляясь в обеденный зал. Как сейчас помню, я сразу почувствовал, что мой долг, срок которому был не больше, чем тот единственный далекий день, запомнить ее облегающее платье и туфли на каблуках и передать увиденное моему товарищу, добавив в качестве комментария, что она невероятно красивая, как любая женщина, в сердце которой поселилась тайная любовь: веселая, капризная, ранимая, сдержанная, молчаливая, апатичная, умоляющая, жалующаяся, суетливая, озорная, неугомонная, беззаботная, дерзкая, страстная, бешеная, как мелодия на струне “соль”, дрожащая, как тремоло у верхнего порожка, что, иными словами, она не менее прекрасна, чем те ноты, что в последнее время целыми днями звучат в ее голове.
6
Во время перелета из Брюсселя в Бордо мы с ним по этому поводу даже повздорили.
— Ах, прекратите!
— Да-да, — настаивал я. — Это и вправду имеет значение.
— Вовсе нет!
Он сделал глубокий вдох, покачал головой. Впрочем, я не понимаю, зачем я говорил все эти вещи, в которые, по крайней мере тогда, и сам не до конца верил.
— Это имеет значение, — упрямо твердил я.
Повернувшись к нему в узком кресле самолета, я снова пересказал в нескольких словах фабулу этого струнного квартета. Влюбленность женщины. Ревность ее мужа. Сопереживание композитора. Я загнул один за другим три пальца.
Он начал негромко, язвительно посмеиваться.
— Вот значит как! И все это вы выудили из партитуры?
— Это, э…, — я стал подыскивать слово, которое исчерпывающе выражало бы суть бесконечно таинственного процесса музыкального творчества. — Это прячется в самих нотах.
Он даже хрюкнул от удовольствия. Вытянул ноги в проходе и развел в разные стороны руки.
— Прячется! — слово ему явно понравилось.
Несколько секунд я уязвленно молчал, но потом сказал:
— Ладно, возьмем хотя бы письмо Яначека его обожаемой Камилле, в котором он пишет о том, что, сочиняя эту вещь, он думал о несчастной, измученной, заколотой кинжалом женщине, которую описал в своей повести Толстой.
Ван Влоотен: “Да-да. И она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился композитор…”
Увлекшись, я не заметил первых признаков его ярости. Перенимая его высокопарный тон, я продолжил фразу: “Действительно, я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое…” Я ведь тоже читал русские книги.
— Послушайте, — сказал Ван Влоотен. — Я люблю после обеда съесть что-нибудь сладкое.
— Да. Я тоже.
Как раз в эту минуту я заметил стюарда и кивнул ему.
Нам принесли профитроли.
— Как мы правильно сделали, — пробормотал Ван Влоотен, откусывая от пирожного. И затем, возвращаясь к теме, продолжил:
— Сопереживание композитора! При всем моем уважении, сударь, я считаю это не более чем индивидуальным допингом. Уж вы-то, такой умник-разумник, должны бы об этом знать.
— Должен бы это знать?
— Да, должны!
Его голос зазвучал резко. В ответ на что я примирительным тоном спросил: “И что же в результате применения допинга? В результате этого, скажем так, непридуманного индивидуального возбуждения?”
— Само произведение, сударь. Иначе говоря, форма, в рамках которой музыка становится музыкой.
Я облизал свои пальцы. Ван Влоотен пытался выудить из кармана носовой платок. Разворачивая бумажную салфетку, я стал рассуждать об огромном влиянии, которое оказывает музыка на нашу душевную жизнь — об этом было известно уже древним грекам.
— Они думали, что фригийский лад угрожает интересам государства, — сказал я.
Он с раздражением меня исправил.
— Вы, наверно, хотели сказать — миксолидийский. Но я понимаю, что вы имеете в виду.
— Музыка нами манипулирует, — сказал я.
— Это верно.
— Но в то же время она, естественно, может пробудить в нас только то, что, пусть в дремлющем виде, в нас уже было.
Он стал засовывать свой носовой платок в карман и довольно чувствительно заехал мне локтем в бок.
Я продолжал: “И, нравится вам это или нет, но в этом квартете бесспорно скрыто нечто такое, что по своей природе гораздо сильнее сопереживания”.
Он ничего не ответил и отвернулся, словно не желая продолжать этот разговор.
Тихо, но все же несколько громче гудения моторов я произнес слово: “Ревность”.
И затем, на время оставив наш диалог, стал размышлять о скрипучем голосе альта. Квартет был написан быстро, кажется, всего за восемь дней. Но он, Яначек, обдумывал этот сюжет много лет. И вот, очевидно, наступает наконец такой момент, когда тема заявляет о себе.
— К чему вы, собственно говоря, клоните? — спросил Ван Влоотен минут через десять. Он выпрямился в кресле. — Говорите!
— Ни к чему я не клоню. Я даже не понимаю, о чем вы.
Что за муха его вдруг укусила? Я слышал его ворчание, но не мог разобрать слов.
— Потрудитесь, пожалуйста, вспомнить, что я вам только что рассказывал о моих женщинах! — закричал он.
Я достал сигареты.
— Давайте не будем устраивать шума, — сказал я и щелкнул зажигалкой.
Когда я теперь об этом вспоминаю, мне до сих пор непонятно, что послужило поводом для следующего: рядом с нами, в проходе, стюардесса, присев на корточки, заметала в совок осколки наших рюмок. Сам я, согнувшись пополам, пытался собрать рассыпавшиеся по полу сигареты, что было непросто, потому что слепой, казалось, так и норовил растоптать их ногами.