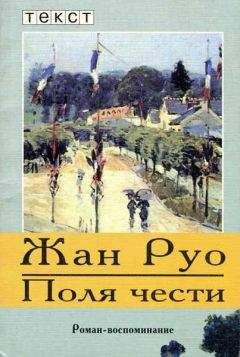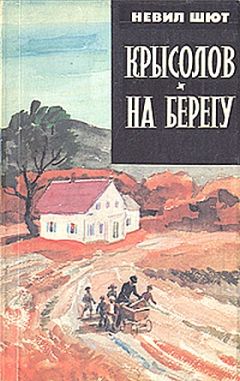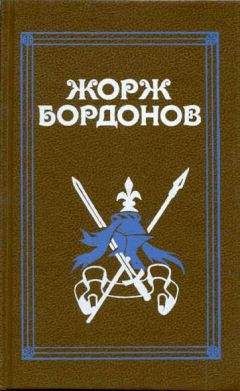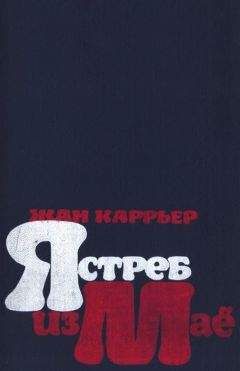Жан Руо - Мир не в фокусе
Если к доске не вызывали ученика, знающего урок, то единственно затем, чтобы спросить того, о ком было доподлинно известно, что он урока не знает и никогда знать не будет, разве только случится нечто невероятное. А тот все прекрасно понимал и потому прятался за спиной товарища, стараясь стать совсем маленьким и незаметным, вжимался в парту, точно желал благодаря чуду — какой-нибудь немыслимой мимикрии — слиться с поднимающейся деревянной крышкой, пока наставник в поисках жертвы обводит взглядом класс, выбирая самого невежественного из всех, ни на минуту не задумываясь о том, что в этом невежестве отчасти виноват он сам. Вот он задержал свой взор на правом ряду парт, и вы внезапно ощутили невыразимое облегчение с примесью сострадания к бедняге по ту сторону прохода, а, впрочем, какая разница — он или вы. Когда-нибудь наступит и ваш черед. Но вдруг вытянутая рука вашего ментора резко отклоняется от направления взгляда, образуя с ним тупой угол, и указательный палец внезапно останавливается на вас, а за ним следует и улыбка — учитель, наконец, поворачивает голову в вашу сторону: он счастлив — его грубая шутка снова удалась.
Да, так и есть, он вызвал именно вас, а вы увязаете в мыслях о преследующем вас чудовищном невезении и, конечно, отвечаете на вопрос одним оторопелым, бессмысленным молчанием. Теперь вы, кажется, начинаете понимать, что он (ну, скажем, Фраслен — пусть отдувается за всех, и нет в том никакой несправедливости, если учесть длинный список его злодеяний) просто хочет поднять вас на смех глупейшим вопросом, типа: «А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, что осталось на трубе»? Ну что? Отвечайте, что? Что-что?! И словно подставляя голову под гильотину, вы даете ожидаемый ответ. Ну, молодец! Дважды дурачина, трижды простофиля, четырежды болван! Сидеть тебе на осле, сто миллиардов раз написать: «Я сижу на осле», — во всех временах и наклонениях, во всех лицах, на всех языках, чтобы всё на свете узнали: вершина глупости, Монблан скудоумия высится в нескольких метрах над уровнем моря, в коллеже Сен-Косм. И далее: Сен-Назер, департамент Луар-Атлантик, Бретань, Франция, Европа, планета Земля, Солнечная система. Млечный Путь, Вселенная.
Преподаванию катехизиса, разумеется, отводилась изрядная доля времени в этом мире сутан — сделаем оговорку: некоторые преподаватели, среди них и старший надзиратель Жужу, недавно скинули длинные монашеские облачения, из-под которых выглядывали грубые, тяжелые башмаки, — черные рясы, перехваченные завязанным на животе поясом, наверное, специально для того, чтобы закладывать за него большие пальцы рук, — и надели строгие темно-серые костюмы протестантских пасторов с черной рубашкой, белым стоячим воротничком (единственной деталью, оставшейся от прежнего одеяния) и серебряным крестом на лацкане пиджака, чтобы их случайно не спутали с каким-нибудь заурядным щеголем; однако, обретя в таком наряде нормальный человеческий вид, они вполне могли всерьез задуматься о том, не вступить ли в законный брак.
На уроке речь шла о тайне Бога, единого в трех лицах, о Троице (Бог есть Отец, Сын и Дух Святой), одном из основных догматов, вокруг которого разгорелись жаркие споры на Никейском и Константинопольском Соборах, где спорящие схлестнулись друг с другом из-за отношений внутри Троицы, единосущности Бога-Сына (рожденна, несотворенна) Богу-Отцу. Жиф разрешил эти споры по-своему, ни с того ни с сего заявив, что эта троица фаворитов — беспроигрышный вариант на скачках. Весь класс замер в каком-то метафизическом ужасе. Ангелы, натыкаясь друг на друга, летали над нашими головами в оглушительной тишине. Мы ждали, что вот сейчас разверзнется земля и с небес на голову богохульнику прольется огненный дождь, а наш духовный наставник обрушит громы и молнии из своей карающей десницы. Но ничего подобного не произошло, и тишайший Жужу, обратив один глаз долу, а другой нацелив на Жифа, — тишайший, поскольку требовалось немалое смирение, чтобы не распять нечестивца за этот выпад — лишь строго сказал ему, что такими вещами не шутят, и вновь углубился в ученые дебри, объясняя различия между ересями, отрицавшими единосущность: омиусианами (говорившими о сходстве, но не идентичности сущностей — что, в общем, ничего не проясняло), омиями (считавшими сходство не субстанциональным, — это также не вносило ясности) и аномеями (суть их учения сводилась к следующему: «Отец есть отец, а Сын не есть отец»).
Но в конце концов все привыкли к выходкам Жифа. Привыкли и всякий раз, затаив дыханье, ждали его реакции. Столкнувшись с вопиющей несправедливостью, непростыми обстоятельствами, комичной ситуацией, мы думали в первую очередь о том, что же выкинет Жиф? Впрочем, он иногда не делал ничего особенного — безучастный ко всему происходящему, изменившийся настолько, что порой казалось, будто он устал нести в одиночку непосильную ношу неповиновения. В такие дни он становился на удивление усидчивым и внимательным, тянул руку, горя желанием ответить на вопрос, радовался, получая грамоту за примерное поведение, расстраивался из-за неправильного ответа так, что грешно было потешаться над ним, и наш наставник, чтобы не лишать его надежды и поддержать неокрепшие стремления, брал на себя смелость утверждать, что ответ не очень уж и плох, — это призвано было оттенить замешательство бывшего смутьяна. В такие минуты мы были почти готовы поверить в чудо раскаявшегося грешника. Но торжество часто оказывалось преждевременным, а плоды обращения к добру слишком хрупкими, поэтому всем классом мы старались помочь Жифу в его становлении на новом пути, опасаясь, как бы он снова не впал в грех. Мы настраивались на его волну, и вот уже весь класс — тридцать примерных учеников — вместе с Жифом с интересом следил за судьбой розы в саду императора Адриана.
А учитель латыни обращался именно к Жоржу-Иву (фамилия его была Франсуа или что-то в этом роде, в сокращении и получалось Жиф): «Отчего дательный падеж употреблен здесь вместо отложительного?» или «Жорж-Ив, назовите нам пролив, где произошло знаменитое сражение римлян с венетами» и, конечно, «Жорж-Ив сможет повторить нам те слова, которые произнес в сенате мстительный Катон… Delenda est… Ну, Жорж-Ив, de-len-da est?». И вдруг вместо ответа раздавалось коровье мычание, оно неслось из маленького металлического цилиндра, который достаточно было перевернуть, чтобы послышались звуки. «Жорж-Ив, немедленно отдайте мне игрушку!»
В сущности, тот восторг, фантастический взрыв ликования, которым был отмечен конец недели в Сен-Косме, был недолгим — вырвешься из коллежа и вдали от него переведешь дух, бросив сумку на землю, обратись лицом к морю. А дальше все так и мелькает у тебя перед глазами: автобус, верфи, рабочие, выходящие на остановках в каждой деревне, наконец, через час с небольшим приезжаешь к себе. Вечером, послонявшись немного по дому, с удовольствием растягиваешься в постели, а наутро все кончено, день уже отравлен тоскливыми мыслями о возвращении.
Молодежная футбольная команда обычно играла в воскресенье по утрам, а после обеда ты начинал мысленно упираться изо всех сил, цепляться за каждый час, лишь бы время не бежало так быстро, ты поглядывал на ходики на кухне, неумолимо ведущие роковой счет минутам — и за уроками, и когда играли в карты, и позже, когда смотрел все подряд по телевизору, включая интерлюдии, в которых рисованный поезд-ребус мчался по натуральным пейзажам. И еще до того, как приходило время собирать вещи на следующую неделю, ты заболевал при мысли, что назавтра уже окажешься в коллеже, и воскресный вечер был окончательно испорчен.
Долгое время мы выходили из дома по воскресеньям только для того, чтобы навестить отцовскую могилу, и в конце концов наши походы на кладбище превратились в еженедельные воскресные прогулки. Кладбище находилось в стороне от городка — такое встречается повсюду с тех пор, как покойников выселили за пределы церковной ограды, — и эти пешие прогулки вошли у нас в привычку, поскольку глава нашего семейства покоился под серой гранитной плитой. Расстояние до кладбища было небольшим, но в одиннадцать лет все оцениваешь глазами ребенка, и несколько сот метров по детским масштабам превращались в настоящую экспедицию.
Так, помимо своей воли, ты становился знатоком по части погребений. Едва заходил разговор о смерти, похоронах, кладбище, невосполнимых потерях, безутешном горе и неизбывной скорби, ты начинал напряженно вслушиваться: это обо мне. Тебе было, что сказать в ответ. Что же? Да ничего. Ты слушал с понимающим видом. Ты знал об этом не понаслышке. А что, собственно, ты знал? Что такое бывает. И вот, неожиданно для самого себя, ты стал завсегдатаем в царстве теней, ты жил в нем, точно рыба в воде. И лишь много позже ты раскаешься в своем желании выглядеть эдаким бывалым танатологом, так как именно к тебе придут за советом в скорбных обстоятельствах и именно ты будешь составлять для всех подряд письма с соболезнованиями. Своим глубокомысленным «это бывает» ты только и приобрел что уменье виртуозно ломиться в открытую дверь, ну да, такое случилось именно с тобой, то есть, естественно, не с тобой самим, иначе ты не делился бы сейчас пережитым, но с кем-то из твоих близких — таким близким, что ты не отделял себя от него, и частица тебя самого, — говоришь ты, — ушла вместе с ним. Но все это, в конечном счете, говорится всего-навсего для того, чтобы вымолить хоть немного жалости к себе, даже если ты с гневом и отметаешь подобную мысль.