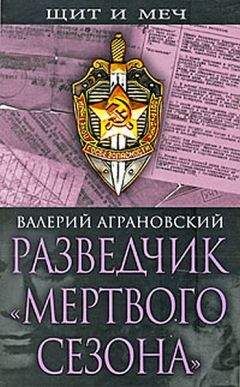Борис Ряховский - Тополиная Роща (рассказы)
— Тючки-то у вас хорошо увязаны? — спросил веснушчатый, перегнулся с седла, деликатно, обеими руками подхватил тюк, подержал. Было понятно, что тюк он неспроста трогает. — Хе-хе, ладно увязано… только бы Жусуп не распотрошил. А у вас, стало быть, — обратился он к Рахиму, — документа нет?
— Какой документ, товарищ? Частная поездка, подкормиться, — угодливо ответил Рахим. — К тому же помогу коллеге… я его первый учитель.
— Ученика-то вашего служба гонит, — сказал веснушчатый Рахиму (оглядев уже его всего с верблюжьим шекпенем, с добротными тугими сумами), — а вам какая корысть ехать в зиму? Не прокормишься… да как задует, начнет в юрте драгун пробирать. — Голос и простоватое лицо веснушчатого выражали доброжелательность, между тем рука цепко держала повод рахимовского коня. — Пущай парнишка едет, ему по молодому-то делу в охотку…
Ясно было, что Рахима забирают. Расстаться бы им тут, в русском поселке, не потребуй Нурмолды карту у Рахима, не разверни на земле полотнище. Достал карандаш, сказал веснушчатому:
— Гляди! Я мальчик был, бескормица случилась, скот сдох, голод пошел… — Следом за карандашом линия прошла между синими пятнами Каспия и Арала. — Тут отца похоронил, тут с Рахим-ага сидели в тюрьме… Линия моей жизни! — твердил Нурмолды.
Его не слушали. Младший, грамотный, присел на корточки, рассматривал вычерченные Демьянцевым стрелы и линии, опушенные точками и пунктирами.
— Вот он сейчас нас рассудит, дядя Афанасий, — сказал парень старшому, — тут у него все нарисовано. — И обратился к Рахиму: — Рассуди нас — где встретились Фрунзе и Туркестанские войска?
— Тут же указано, — Рахим склонился над картой, — в Мугоджарской… 13 сентября.
— Во, дело говорит, — торжествовал веснушчатый дядя Афанасий, — я тот разъезд помню, и точно — осень была.
Парень сказал, что он на своем не стоит, отец у него воевал, встретились они с Фрунзе в Темире…
— Отец у него! — ликовал дядя Афанасий. — А я сам! Я с Фрунзе от самой Уфы. Человек правильно знает… — Он глядел на Рахима новыми глазами. — Правильная у тебя карта, годок. Поезжай, учи по ней!
Отъехали, Рахим расслабился. Поверив наконец, что опасность позади, он вытер испарину подкладкой шапки:
— Уфф… ну времена! Ты, неграмотный, едешь учить грамоте. Вместо паспорта у меня драная ученическая карта…
Прокричали чибисы в речной долине. Нурмолды поднял голову, бесчувственный, еще измученный дрожью, тяжелым, как забытье, сном на холодной земле.
Рахим встретил его взгляд улыбкой.
Тонкие желтые губы, оспинки на скулах, желтые, больные белки глаз, морщины скобкой охватывают рот, — давно ли это лицо было чужим, не соединялось с голосом, с тем голосом, что день за днем в темени, в зловонии земляной норы участливо расспрашивал об отце, об ауле, как бы соединяя Нурмолды с той далекой солнечной жизнью, самая память о которой давала силы жить.
Этот звучный, ясный голос уводил на гигантские торжища — на Ирбитскую, на Нижегородскую ярмарки, в Казань, в Касимов, — туда Рахим ездил с отцом, приказчиком купца, касимовского татарина, торговавшего каракулем, и был поражен его каменным, с колоннадой домом. Уводил в Мешхед, в Стамбул, в Дамаск. Рахим не бывал в мусульманских столицах, не видал их сияющих над садами куполов, лезвий их минаретов в ночных водоемах, но знал наперечет тамошние святыни. Этот голос учил счету, учил русскому языку. Стражник, чахоточный старик, в сущности, такой же узник, разносивший по утрам смесь из горячей воды, порченой муки и каких-то горьких семян, задерживался возле их норы, слушал Рахима, ругался, кашлял — особенно его раздражал рассказ про аэроплан, — а на другой день подправлял горькую смесь хлопковым маслом или приносил палку, — свою они упустили, и тогда они смогли наконец прочистить трубу нужника.
Нурмолды спустился к речушке, зачерпнул чайником.
Руки заледенели, левая, разбитая, когда он пробивал отверстие под консоль, болела: под тряпицей созревал нарыв.
Пар клонило к воде током воздуха, он был стеблист, голубовато-синий, как молодая полынь.
Под ногами захрустело: ссохшиеся шкурки ежей, сова пировала. Нурмолды дрожал — что в таком холоде рубашонка и матерчатая безрукавка? Степь желтая, в колючих остьях трав, как усыпанная шкурками ежей. Черные, подсвеченные восходящим солнцем отроги. Тревожно, за горами идут грузные снежные тучи.
4
Десятка полтора саманных домов, не беленых, с облупившимися стенами, дворы не огорожены, голо, местами из ископыченной и засоренной гусиным пером грязи берега торчат обглоданные прутики тальника. Поодаль — длинное строение, к нему примыкает кошара. Тоскливо было глядеть на это голое селеньице, — умерший ли здесь друг Демьянцева был виной?.. Приходило на ум, что стоит оно на краю света, что жители смиренно несут бремя своей убогой жизни, что зимой заметет саманки по крыши, по ночам станут набегать волки, хватать гревшихся возле труб собак. Оцепеневшие в речке гуси своими криками завершали картину смиренного уныния.
У черного, скуластого мужика спутники купили мясо. Удача была не только в том, что мужик сегодня резал барана, — у него оказались рис и морковь. Нурмолды поглядел-поглядел, как повеселевший Рахим перебирает рис, и спросил хозяина о могиле русского человека, который записывал песни.
Тот не глядя указал на дорогу.
К могилкам Нурмолды привела женщина. Он увидел ее от домов, далеко в степи. Она будто уходила по рыжей, с мысами песка равнине.
На женщине была веселая одежда: белая рубашка, высокая, под грудь, юбка из красной, в полосках домотканины.
Они дошли до сухих бугров, женщина поглядела:
— Вот они, мазарки… могилки то есть. Плиту замело совсем… — и указала на угол всосанной песком плиты.
Нурмолды стал руками разгребать песок.
— Он, композитор, тихий был… ужаственно тут зимой… — говорила тем временем женщина. — С киргизами конину ел. А яё, горбатенькую, я не меньше яго жалею; как яго любила, как любила! Все деньги на эту плиту стратила. Тягали верблюдами и не довезли, кабы не его товарищ.
— Демьянцев?
— Он тоже здесь пропадал… административно-ссыльный.
Выступило вырезанное на мраморе:
Пусть арфа сломана,
Аккорд еще рыдает.
— Бумаги его растащили, — говорила женщина, — думали, шарабара какая, заворачивать или еще на что…
Женщина глядела из-под руки в степь, красную от закатного солнца. Почуяла взгляд Нурмолды. Он же глядел не видя: слова женщины беспокоили, были в связи с чем-то увиденным здесь, но с чем?
— Вот нарядилась в свое девичье. Мужа жду… Гурты гонят с Мангышлака. — Она оправила юбку, одежда была тесна, она радовалась ей и стеснялась. — Рязанские мы…
Вспомнил, вспомнил Нурмолды: кулек с рисом был склеен из разлинованной, усаженной значками бумаги — листы такой бумаги он видел на пианино в доме Демьянцева.
Он побежал к поселку, вернулся было.
— Иди, я отгребу, — махнула женщина.
Десяток листов нотной бумаги, пожелтевших, исписанных, по знаку черного мужика принесла его дочь в обмен на тетрадь и карандаш. Сам мужик великодушно добавил кулек из-под риса, расправив его тяжелой рукой.
Он расправил кулек грубо, так что оторвался прочь надорванный прежде уголок. Нурмолды подобрал кусочек бумаги со значком, похожим на паучка. Достал иголку с ниткой, пришил «паучка» на карту. Пришил в том месте, где «линия его жизни», как он сказал милиционерам на окраине русского поселка, повернула на юг, к Аральскому морю, задевая желтые песчаные наплывы.
Рахим высоко подвернул рукав, выскребая плов из котла. Его узкие кисти производили впечатление слабости. Сейчас Нурмолды поразился его тугой, игравшей мускулами руке.
5
Набегали гряды холмов. Обгоняли всадников ветра, проносили над головой дымчатые тучи. Громоздились тучи на краю равнины. Глядь, не тучи это, а отроги с выпяченными голыми боками, испятнанные тенями облаков.
Утиные стаи сетями накрывали плесы. В густых красных закатах висели журавлиные клинья.
Казах без коня — не казах!
Путники достигли долины реки Эмбы. Здесь на ковыльно-злаковых пастбищах адаи держали летом свой скот.
Нурмолды видел с седла обширную, вытоптанную излучину с кругами желтой травы: то были следы юрт. Блестела, как кость, поперечина коновязи. Ветер шуршал в сухой полыни.
Дивился, умилялся Нурмолды, оглядываясь: тот же избитый скотом глинистый берег, коновязь, те же облака в воде плеса, будто не минуло пятнадцати лет, будто он не ютился с отцом в косы[2] на окраине Форт-Александровского, не слеп от блеска моря на причалах Красноводска, в Чарджуе не протискивался в сухой мрак пароходных котлов.