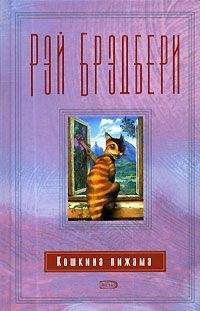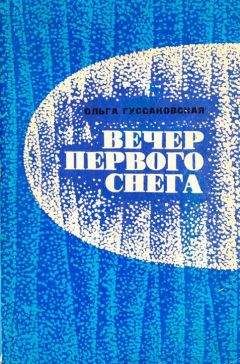Вера Галактионова - На острове Буяне
– Поздно, ой – поздно, Нюр, вода спала! А меня, прям с весны самой, мужик один всё сватал…
Зайцева непонимающе заморгала светлыми ресницами.
– Я на базаре ведро чёрной брала, – сказала она наконец. – Вареньем переварила… А кручёной – нету.
–Ну я тебе пару банок дам. Заходи.
–И что за мужик?
– Да ты не знаешь. Он в каждом письме сватал, а я не соглашалася. Думаю, кто их, городских, знает, – отщипнула Бронислава с «Ваньки мокрого» пожелтевший листок, заботливо отыскав его у самых корней. – У нас и моды-то здесь такой нету, не за здешних выходить. За озёркинских ещё – так-сяк, а уж за шерстобитовских – нет. Не говоря про городских… Ну вот он щас ко мне приехал.
– Батюшки! – взмахнула руками Зайцева. – Страх какой…
– Он уж на работу устраивается. В редакцию. У нас работать будет, – похвалилась Бронислава со скромностью. – Обещали ему.
– Ну?!! – не поверила Зайцева.
– Ага. Говорит: айда распишемся, на этой работе нельзя не по закону жить.
– А ты что?
– А что я? Думаю, вот: с Анной Павловной посоветоваться надо. Она законы знает… Даже не знаю, расписываться что ль? Или погодить? Всю голову себе изломала. И вдоль, и поперёк.
Зайцева подпёрла веснушчатую щёку рукой, строго сдвинула густо накрашенные брови:
– Ну он тебе-то как? Самой-то?
Бронислава вздохнула, потупила глаза. Потом выискала привядший крохотный цветок. И сорвала прилежно, неторопливо:
– …Нравится, Нюр. Что нравится, то нравится.
– Ну а кого же тогда советоваться? Город из-за тебя, гляди-ка, бросил!
– Он тут, в коридоре ждёт.
– А-а-а! – в изумлении открыв рот, Зайцева тут же зажала его ладонью и стала опасливо поглядывать на дверь сквозь цветущий куст.
– А я ему говорю: как щас Анна Павловна скажет, так и будет. Я что думаю? – зашептала Бронислава, пригибаясь к столу. – В один день, думаю, расписаться-то лучше, без шума. Правильно, Нюронька? Потихоньку.
Зайцева отряхнула извёстку с кофты, поправила жёлтые кудри над чёрными бровями и немного подумала.
– Зови! – хлопнула она ладонью по столу.
Но дверь распахнулась тут же, до всякого приглашенья.
– Что, лампочку ввернуть нельзя, в преддверии семейной жизни?! – сердито щурился Кеша на свету. – Загс называется… Тоже мне, ботаники. Держат людей, как в погребе! Без всякого фотосинтеза, проклятье… Тут, в вашем коридоре, самый цветущий жених поблекнет. По ходу жизни… Вот, дер-р-ревня. Пока не подскажешь…
Зайцева сначала широко раскрыла глаза – а потом отрезала:
– Там у нас – женихи временные, в коридоре-то. А постоянный – вот он, раскудрявый наш: «Ванька мокрый». Весь на свету. Нам этот – главней. А всякие залётные перебьются. За пять минут не облезут… Облезлые тем более, – прибавила она с вызовом.
– Какие пять минут?! – взвился Кеша. – Я, образованный человек, поэт, художник, должен битый час торчать в темноте чиновничьих лабиринтов!.. Проклятье. Другой бы художник, между прочим, давно сбежал. Из вашей тьмы веков. Если бы дверь, конечно, нашёл… Особенно, если бы магазин рядом был.
Зайцева между тем придвинула к нему бумаги.
– Ну, шутник, – неодобрительно сказала она про Кешу. И задумчиво заметила, разглядывая его с ног до макушки. – Ладно. Пускай пошутит. Напоследок. Минут пятнадцать ему осталось. Ты шути, шути.
– Какие тут шутки? – обиделся Кеша. – Западня у вас, а не коридор. Без окошек, без дверей. Загс сконструирован по принципу мышеловки! Выскочить невозможно… Впрочем, вам, всевозможным женщинам, не понять. Так, сесть куда?
[[[* * *]]]
Бумаги он решил заполнять сам. И долго с оторопью смотрел в паспорт Брониславы.
– Старая, что ж теперь! – весело сказала Бронислава, стоя за его спиной. – Ничего. Не намного… Ты, вообще-то, старей выглядишь.
– Уж это точно: не больно-то раскрасавец. А она у нас – ягодка опять! – со смехом поддержала Брониславу Зайцева.
Но Кеша от «ягодки» не развеселился. Он писал всё медленней, хмуро выводя полупечатные буквы. В кабинет, между тем, вошёл, пригибаясь, огромный старик – в новых негнущихся валенках и в новой чёрной спецовке. Фёдор Фёдорыч, бывший конюх, был теперь здесь истопник и сторож, и четыре дня назад получил со склада всё ненадёванное.
– Доброго здоровьица, – степенно поклонился он Брониславе, коротко глянув из-под всклокоченного чуба. Пегие с сединой, волосы его дыбились своевольно и жёстко, высокие скулы были обветренными и шершавыми, а узкие глаза – насторожёнными, как у лесного чуткого зверя: они горели уверенным, беспощадным светом.
– И вам не хворать, – поклонилась ему Бронислава.
– Витёк чего пишет? – сдержанно спросил старик из-под потолка, оглаживая бороду, торчащую во все стороны подобием сухого терновника.
– Пишет, служит.
– Поклон ему от меня черкни. Мол, Фёдор Фёдорыч стараться наказывал, – распорядился старик со своей высоты. – Отпиши: буянские завсегда веселей всех команды исполняют – и завсегда в живых остаются! Запоминай, дочка. Помереть, отпиши, никогда не торопись! Потому: помереть – дело не хитрое, и мы к нему – не способные. А ты всех победи, да без царапины сам останься – вот где ты молодец умный выйдешь! Молодец-удалец. Да… Буянские – мы все с пелёнков так приученные. То-то и оно… Больно пьющих-то у нас нету и сроду не было. И мы из-за этого всегда в силе! И в силе, и при ружьях, и в полном весёлом уме… Отпиши, дочка, в точности: не забудь!..
От диктовки старика Кеша морщился, резко вздыхал, и ручка его то и дело зависала над казёнными бумагами в воздухе, будто в недоумении.
– Отпиши! – вдохновлялся старик всё больше. – Пускай враг помирает, тудыт его растудыт! Потому: вражье это дело – помирать, а – не наше! Епонец ли, китаец – нам разницы нету: любой пускай наскочит! И мы его тут грамотно упокоим… Немца кто от Курска поворотил? Отпиши: буянские. Пока цельный полк наших не пригнали!.. А без нас бы – кого?..
Фёдор Фёдорыч махнул рукой и стал сидеть без дела на стуле, под картиной, оглаживая свою жёсткую, разветвлённую бороду с важностью.
[[[* * *]]]
– …Видала ты нашу картинку? – заскучав, спросила Зайцева Брониславу.
И указала пальцем:
– Вон она висит. Художник, который все колдобины здесь срисовал, помнишь его? Тоже художник, как твой… Ему дядя Федя про молодость рассказывал. И вон, гляди, как он его молодого раскрасил, дядю Федю нашего. Протянул.
Зайцева, Бронислава и полуобернувшийся старик полюбовались на картину вместе. Там исполинский дядя Федя, устремившийся с Буянной горы вниз, рвал на себе белую рубаху. А две дюжины мелких румяных бабёнок в цветных полушалках сдерживали неистовый его порыв – висли на руках гроздьями, болтая в синем небе ногами, и не доставали щегольскими красными сапожками оттаявшей земли.
– «Буйство Фёдора по весне»! – с гордостью огласила Зайцева название картины. – Говорят, такая же в музее где-то прибитая есть. Только там вместо баб на руках у дяди Феди хомуты висят. «Фёдор с хомутами» называется. Не помнишь, в каком музее-то, дядь Федь, ты на стенку прибитый висишь?
– В Сквык-твык-каре, вроде? Забыл я… Это что! Если б он про Халхин-Гол нарисовал! Я ведь ему про Халхин-Гол толковал, а он… Про это у нас красками и Миня-дурачок наваракает… Чугунок-то с картошкой ставить на плиту, иль погодить? – спросил старик у Зайцевой. – А то у нас, на Халхин-Голе, разведёшь, бывало, в ямке костерок, а большой – нельзя: степища!..
– Погоди, дядь Федь, – отмахнулась от него Зайцева, потому что Кеша кончил писать и сидел теперь, заносчиво отвернувшись от Фёдор Фёдорыча и нервно качая ногой.
– …Твой что ль? – спросил старик Брониславу, глянув на Кешу мимолётно и хмуро, из-под низких лохматых бровей. – Ишь. Барбос.
– Нет ещё! – улыбнулась она Фёдор Фёдорычу. – Ничей пока что. Не занятый.
Кеша по-прежнему не обращал на старика своего внимания. Только ещё выше вздёрнул подбородок и поправил кривой узел галстука.
Покашляв для солидности, Зайцева сверила написанное с паспортами. Потом в мгновение ока достала из ящика стола четырёхугольную печать, дохнула на неё – и вдавила в Кешин паспорт с недюжинной силой.
– Как?!. – вскричал потрясённый Кеша. Он привстал со стула. – А месяц думать?!!
Но строгое покашливание Зайцевой заставило его сесть снова.
– Вы сюда думать ехали – или жениться? – постучала она по столу кулаком. – Тут вам – учреждение, между прочим! До сорока лет он в городе не надумался, видите ли. Во всех удобствах в своих.
Зайцева прицелилась – и хладнокровно шлёпнула печать в паспорт Брониславы.
– Ну, жениться!.. Приехал! Жениться! По ходу жизни! – взбеленился вдруг Кеша. – Как вы могли предположить… И возмутительно! Просто возмутительно… Я что, не понимаю? Это же солидней: женатый человек и всё такое! Есть жена, дом… Это вам – не кент какой-нибудь с улицы!.. Но у меня же чистый документ был! Без штампов!.. Всего месяц. Был. Чистый…
Фёдор Фёдорыч слушал, почёсывал то одну, то другую ногу, натёртую жёстким краем неразносившегося валенка, и бормотал что-то себе под нос, неодобрительно косясь на Кешу. Впрочем, долетало временами и нечто внятное: