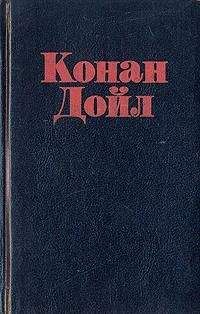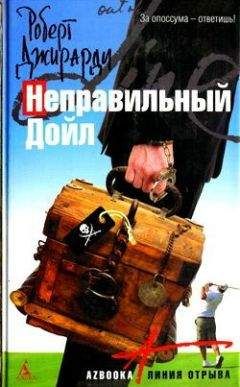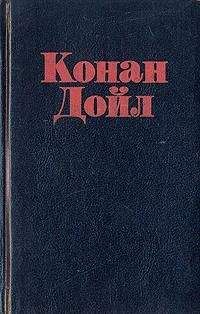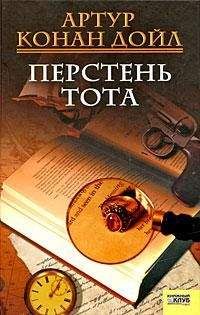Иван Колпаков - Мы проиграли
Впрочем, горько (только так) не было. На высохших от солнца губах запекся арбузный сироп, или то было красное вино? Кто знает? Я наполнил опустошенную (только так) винную тетрапаковую коробку мелкой галькой. Весила она, должно быть, два кило с гаком, и, я надеюсь, никто из маленьких детей не рискнул пнуть по ней маленькой голой ножкой, потому что – о-о-о – да, это было бы действительно больно.
Балаклава – щелкать языком, выговаривая этот известный всякому среднестатистическому советскому туристу топоним, приходится почти так же, как при выговаривании «Лолиты». Кончик языка. Грех мой. И тэ дэ.
35.Тире в предложении, как и тире между датами на могильной плите, обладает уникальным свойством ритмичного, пульсирующего, сингулярного молчания, из которого разворачивается смысл.
Тире никогда не ассоциировалось у меня с препятствием, с запинкой, с неудачно повисшей посередь разговора паузой. Напротив, тире – летящая стрела; или менее удачное, но более точное сравнение: тире – тонкая стеклянная шейка, соединяющая две колбы песочных часов, сквозь которую неумолимо сыплется песок, пока не кончится весь. И время обречено – струиться, и мы обречены – возвращаться, слабо надеясь на то, что «жизнь качнется влево, качнувшись вправо».
И вот – тоска. В последнем отечественном номере Esquire напечатан список новых английских слов и выражений, еще не переведенных на русский язык, но обязательных к включению в вокабуляр. Для начала предлагаю толкование одного из таких слов (в соответствии с журналом): «человек, находящийся в постоянном состоянии депрессии, в плохом настроении». Как вы думаете, кто такой? Собственно, да – Russian, «Русский», конечно. И вот – тоска. А чему тут удивляться?
Как это логично, как естественно, как ожидаемо. «Русский» грустит по всякому поводу, по поводу отъезда и приезда, по поводу свадьбы и похорон, по поводу зимы и по поводу лета, по поводу засухи и по поводу дождя. А в перерывах – веселится. Я – «Русский»: веселие мое разнузданное, как ярмонка, сменяется черным мраком отчаянья и безысходности. Я хожу по краю – от края до края, от моря до моря, и середина мне, как любому любителю поджаристой хлебной корочки, кажется постным мякишем.
Я холю и лелею безумный свой нравственный закон и плачу от звездного неба над головой. Я – «Русский». Мне, в сущности, плевать, хорошо вам там, по ту сторону, что называется читательской, или плохо.
Я буду дальше веселиться и бередить раны. Я очень боюсь, что победят буддисты и психоаналитики, и мир станет скучным, пыльным, уравновешенным и самодостаточным, как тире, лишившееся и первой, и второй части предложения, в которые его заточил писатель. Примерно вот так:
—
Папа, я видел Rolling Stones. Ты представляешь?
36.Итак, пока не принесли чай, еще раз о вечном возвращении.
Кое-что наверстать ровным счетом невозможно. Например, чужие детские книги. Если ты не прочитал их в своем детстве, для тебя они навсегда останутся чужими. В моем детстве не было «Трех мушкетеров». Зато были «Робинзон Крузо», «Швамбрания», «Одноух и Дыркорыл», которые я знаю наизусть, которые я прочитал много раз в прямом и обратном направлении (а «Робинзона» мне еще бабка вслух читала, я помню! – то есть мне не было тогда еще четырех лет). Лет в пятнадцать я взялся наверстывать упущенное – схватился за полку с приключенческой литературой, той, что прошла мимо меня. Но для меня они ровным счетом ничего не значат – эти книги, написанные для детей, и не попавшие в мои руки в моем детстве.
Отчего же так долго не несут чай?
Не исключено, впрочем, что дело не в детстве (я с удовольствием перечитал недавно того же «Одноуха и Дыркорыла» и испытал невероятное удовольствие от самого текста), то есть не в том, что я говорю именно о детских книгах. Пример детства всем понятен, потому что детство, как ни крути, каким бы оно ни было, – самая счастливая пора в жизни (не смущайтесь и читайте дальше). Потому так остро воспринимаются вещи, окружавшие нас в детстве, музыка, звучавшая тогда из открытых окон во дворе, одежда, что там еще, политический строй, в конце концов. Все эти обстоятельства места дают редкий повод погрузиться на полсекунды в мелькнувшее воспоминание, перехватывающее дыхание, и снова ощутить себя маленьким человеком, от которого требуют немного и любят просто за то, что он есть на свете.
Чай несут.
У меня есть такое воспоминание. Не могу понять, что именно его вызывает – то мелькнувшие по телевизору кадры кинохроники 1980-х, то, может быть, случайная мелодия или просто что-то предельно аллюзорное – еле знакомый и уже забытый запах, шероховатая поверхность поручня в автобусе (с вертикальными желобками). Я прикрываю глаза и в ту долю секунды, пока моргаю, с обратной стороны век наблюдаю водопад воспоминаний: зеленые обои в ромбик в маленькой комнате, вид из окна на засохшую иргу, а главное – я вдруг вижу, как плывет, точно снятая на допотопную видеокамеру с косо установленного штатива, улица Ленина, где-то в районе нынешнего «Покровского пассажа», но я вижу (!) – дело происходит в Советском Союзе; именно это воспоминание преследует меня; когда я открываю глаза, то чувствую, что разгадал какую-то сложную загадку и тотчас забыл ответ.
Несут кому-то другому.
С каждым годом узнавать некогда виденное становится намного важнее, чем узнавать то, что не видел никогда. Никогда не понимал престарелых европейских туристов – неужели в их (…) возрасте еще интересно ездить в новые страны? Я уже говорил, но другими словами: всякое путешествие имеет смысл только в случае возвращения. Не бывает счастливых переселенцев, не бывает счастливых эмигрантов, не бывает счастливых невозвращенцев. Возвращение – логичная точка после предложения, отсутствие возвращение есть отсутствие знака препинания, подчеркивающего утверждение. Или восклицание, или вопрос.
Не несут.
И даже традиционное восприятие жизни как путешествия укладывается в эту мысль.
Как же медленно тут все.
Может быть, отсутствие путешествий в активную часть жизни, и компенсируемое в старости, позволяет восполнить какой-то очень важный пробел. К слову, современность призывает разомкнуть этот круг. Весь этот комфортный микромир – фонотека в маленькой коробочке айпода, библиотека и рабочий кабинет в мобильном телефоне, сбережения на пластиковой карте – условие для удобного бытийствования в постоянном движении. Люди все с большей легкостью покупают дорогое и мобильное, при этом скупятся на дешевое и стационарное. Обрастание скарбом, недвижимостью, землей, эта сознательная иммобилизация воспринимается как нечто реакционное, мещанское, сковывающее движение (!). Путешествовать налегке приятно, но и ухватиться, по большому счету, не за что. Почвы больше нет. Завтра – это мир пожизненных пассажиров, с билетом из точки А в точку Б без права на обрат.
Принесли чай – в белом фарфоровом чайнике и продолговатыми бумажными пакетиками «FAQкафе – sugar».
Чужие детские книги – всего-навсего чужие детские книги.
37.А эти престарелые европейские туристы, они не боятся вдруг умереть где-нибудь вдали от дома?
38.Моя персональная ассоциация с фильмом «Вавилон» Иньярритту – это Бред Питт, извините, герой Бреда Питта, выглядящий, как мой отец, обладающий взглядом моего отца, жестами напоминающий отца, но абсолютно, категорически, зеркально не совпадающий с ним в действиях, в решительности, в злости.
Тем не менее, персонально для меня символично, что Бред Питт, который никогда мне не казался похожим на отца, вдруг вызывает в памяти его тень именно в «Вавилоне» – драме непонимания и (прошу прощения за) паззлнескладности бытия. Неспособность изъясняться на одном языке пугает, тогда как вступление в эру владычества коммуникаций и медиа не дает однозначного положительного ответа на главный вопрос – услышит ли кто-нибудь тихое мерцание посланного тобой сигнала SOS; если у тебя есть месседж, то это еще не значит, что ты не лузер.
Реальные концовки печальны и не похожи даже на такое жестокое кино, как фильм Иньярритту: одиночество неизбежно, неукротимо, пронзительно. Страшно даже представить себе последние дни отца, наполненные лишь болью, желанием освободиться (?), чувством собственной ненужности, оставленности. Но что мне об этом известно? Ничего. Вообще ничего. Только то, как это выглядело со стороны. А со стороны это выглядело удручающе.
39.Дед не узнает меня уже приблизительно три года. Он смотрит на меня своими слезящимися глазами, старость в чем-то желтом растворила голубизну его зрачков. «Ваня, кто это?» – спрашивает бабушка. Ваня лишь качает головой. Бабка вытирает слюну в уголках его губ маленьким белым платком. Иван Петрович засыпает.