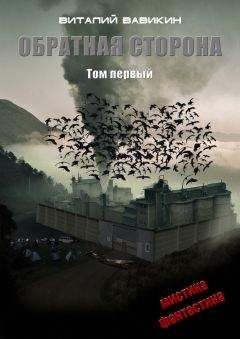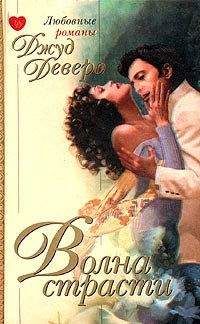Максим Чертанов - Правда
Теперь долг Феликса — сделать все, чтобы проклятье Марины исполнилось до конца. Нужно, угрожая революцией, заставить великого князя Михаила отказаться от престола (которого, впрочем, тому еще никто и не предлагает) и успеть взять из рук последнего Романова не только державу и скипетр, но и самое главное — волшебное кольцо, что хранится в императорском дворце, передаваясь тайно от одного вора-самодержца к другому. Жаль, неизвестно, как это кольцо выглядит; зато достоверно известна надпись, что сделана на его внутренней стороне...
Пусть дураки, которых Феликс пока находит нужным использовать, до поры до времени верят в диктатуру пролетариата, пусть стараются... Впрочем, социал-демократы были всего лишь запасным вариантом — на случай, если почему-либо вдруг провалится первый, более радикальный и быстрый... В любом случае промежуточный итог один: Михаил окажется на троне. (Ведь Николай Романов, благодарение Господу, неспособен породить наследника.) А потом уж, разобравшись так или иначе с Мишей, новый правитель позаботится об этой стране. Да-да, позаботится, восстановит справедливость: навек отдаст грязную Московию под власть Речи Посполитой! Огнем и мечом очистит ее, огнем и мечом, как его великий предок, грозный сын Елены Глинской! (Лишь дети спасутся, невинные дети...) Недаром мать Феликса тоже зовут Еленой... Это — знак. Он на верном пути.
Однако пора было начинать новый день. Из соображений безопасности Дзержинский не держал домашней прислуги; он сам тщательно застелил постель, облачился в халат, отправился в ванную. Конечно, ванной революционеру-подпольщику, недавно бежавшему с царской каторги, не полагалось, как, впрочем, и комфортабельной квартиры; но правила существуют для всех, кроме того, кто эти правила устанавливает. В беседах с «товарищами» он всегда отзывался о буржуазных удобствах с презрением и был в этом почти искренен: что такое был этот умеренный, робкий комфорт по сравнению с роскошью царских палат, которая ждала его впереди?
Его утренний туалет, как правило, совершался не менее часа: с детских лет был по-кошачьи чистоплотен, а с годами страсть к чистоте сделалась несколько маниакальной. Во всем должна быть чистота, чтоб ни капли крови, ни пятнышка. Чистые руки, горячее сердце, холодная голова... Мыло на умывальнике было бледно-лиловое, пахнущее фиалкой. Щетки для волос — из серебра. С наслаждением он погрузился в наполненную ванну. Лежал в воде, размышляя о делах предстоящего дня, и горячий пар обволакивал его. Он был в восторге от формы пальцев на руках и ногах — их изящное совершенство лишний раз свидетельствовало об аристократизме и знатности происхождения, — но в общем вид собственного обнаженного тела не вызывал в нем ни удовольствия, ни неудовольствия. Это было удобное тело — выносливое, мало нуждающееся в пище, умевшее сдерживать свои желания и, что было наиболее ценно, — благодаря своей сухощавой стройности и гибкости идеально пригодное для того, чтобы с легкостью принимать чужие обличья. С помощью грима, накладных бородок и париков он в считанные минуты мог превратиться в кого угодно: этого требовала жизнь нелегала, которую он вел, но это также отвечало его глубокой внутренней потребности в лицедействе.
Приняв ванну, он побрился, оделся, сбрызнул себя французской душистой водой, застегнул на все пуговицы сюртук. С брезгливым презрением вспомнил о наглом, рыжем, картавом человечке. «Принимает ли тот когда-нибудь ванну? А эти манеры — шут, ярмарочный зазывала! Да, и с такими кадрами приходится работать... Что ж, плевать на его манеры. Лишь бы этот бойкий коммерсант оказался удачлив в добывании денег для партии. Перефразируя Лойолу: каждый революционер должен быть подобен трупу в руках вышестоящего начальника...»
Первая половина дня прошла как обычно: встречи с партийными товарищами, споры, разговоры... Дзержинский не любил этих бесплодных дискуссий, предпочитая появляться молча и приказывать тайно, но — иногда приходится делать то, чего от него ждут. Еще одно правило иезуита: улыбайся... Обед в дешевой кофейне, заседания, совещания... Обычно его улыбка больше напоминала удар кинжалом, но в этот день он улыбался мягче обычного, терпеливо-снисходительно выслушивая вздор, что несли его соратники, поскольку предвкушал два небольших удовольствия, которые позволит себе нынче вечером...
Около полуночи он, завернувшись в широкий плащ, стоял у ворот небольшого особняка, куда приходил регулярно в последние несколько лет. На стук молоточка вышел лысый пожилой лакей, с поклоном проводил его в гостиную. Граммофон играл похоронный марш Шопена. Медиум и собратья уже ждали его. Их было немного: Лондон кишел спиритическими кружками, но он не нуждался в большом обществе и не желал, чтоб его общение с бесплотным миром становилось предметом обсуждения досужих сплетников. Его партнеры — пожилой немецкий банкир, сумасшедшая старая дева-англичанка и остальные в том же духе — были молчаливы и нелюбопытны.
Горничная обнесла гостей жиденьким сладким чаем. Угощения к чаю не полагалось. Вошла хозяйка дома — медиум, худая мрачная женщина в черном шелковом платье. Она называла себя m-lle Лия; Дзержинский знал отлично, что она вдова лондонского мясника по фамилии Джонс, но все это не имело значения: двери в тонкий мир открываются лишь избранным, и не важно, чье тело и чьи голосовые связки послужат проводником и отмычкой. Он и сам обладал неплохими медиумическими способностями, это проявилось еще в отрочестве — вся его напряженная, наэлектризованная душа была словно создана для бесстрашного проникновения в иные миры — но медиуму, к сожалению, не дано слышать и помнить того, что в трансе произносят его губы; медиум — глухое и слепое орудие, а Дзержинский не любил быть орудием в чужих руках, предпочитая использовать других людей — всех, кто попадался на пути.
В этот вечер у него было к духам несколько практических вопросов. В частности, ему хотелось услышать какую-либо информацию относительно Ленина: можно ли хоть немного доверять этому балаганному буржуа, или же следует остеречься. Нет, он, разумеется, в решениях руководствовался собственным интеллектом, но не отрицал, что и духи могут дать неплохой совет. Нужно только знать — кого и о чем спрашивать. Хотя в революционных кругах над спиритизмом было принято смеяться, Дзержинский знал (благодаря разветвленной агентурной сети он знал все), что многие «товарищи» пробовали общаться с душами умерших революционеров прошлого, надеясь, что те укажут им правильный путь и остерегут от ошибок. Но они были неумны и, как правило, вызывали тень Маркса — вот уж у кого бы Дзержинский в последнюю очередь стал просить помощи! Ведь духа невозможно принудить говорить о предметах, которые его не волнуют. «Старый болтливый еврей не способен толковать ни о чем, кроме своих семейных делишек, его даже из „Капитала“ не упросишь процитировать — да и что проку в этом „Капитале“! Эта масонская книга еще глупей, чем Библия. А манифест, от которого поросячьим визгом заходились три поколения русских подпольщиков? „Призрак бродит по Европе“ — ах, какое глубокомыслие! Масоны вообще глупы — надо ж так извратить и опошлить идею тайного рыцарского союза!»
Опустили портьеры, погасили почти все свечи, в комнате воцарились тишина и полумрак. M-lle Лия села, закрыла глаза, ее грудь сильно вздымалась, лицо было приторно-вдохновенное. Напряженным голосом она потребовала, чтобы все взялись за руки. Дзержинский поморщился: прикосновения чужих людей были ему неприятны. Рука соседа слева была теплой и липкой, соседа справа — влажной и холодной как лед. Что-то заскрипело, что-то словно пронеслось в нагретом воздухе комнаты... M-lle Лия задышала шумно, с присвистом; раздался печальный вздох, и скрипучий старческий голос прошелестел по-английски: «Не мучьте меня, прошу...» Старая дева громко всхлипнула — это был голос ее покойной сестры. Сеанс начинался удачно.
С терпеливой скукой в сердце Дзержинский выслушал нежную перебранку двух старух, затем — советы, которые давал банкиру его тесть, бывший при жизни удачливым биржевым игроком. Иногда из этих чужих излияний удавалось почерпнуть ценные сведения, но на сей раз ничего заслуживавшего внимания сказано не было. Сестра-старушка передала, впрочем, привет от почившей королевы Виктории, но Дзержинский не видел, какую практическую пользу можно было из этого извлечь. Виктория ли, Эдуард ли, — все это слишком далеко от российских дел. Биржа его тоже мало интересовала: в финансовых вопросах он был слаб. Добывать деньги — удел таких, как Ленин... Кто явится сегодня? К большому огорчению Дзержинского, ему ни разу не удалось установить связь с кем-либо из своих царственных предков. О, как хотел бы он услышать голос Марины или Димитрия! Но, по-видимому, слишком велика была толща времен, отделявшая его от них.
Говорливый дух биржевика наконец покинул комнату, и после непродолжительной паузы из уст медиума полилась округлая, ясная французская речь. (Никто из присутствующих не понимал по-французски, это было очень удобно.) Дзержинский с радостью узнал этот мужской голос: Огюст Бланки. Он приходил на зов часто, был немногословен и точен в ответах, и Дзержинский его очень ценил: человек, первым провозгласивший идею партии как рыцарского ордена профессиональных революционеров, заслуживал того, чтобы к его мнению прислушались.