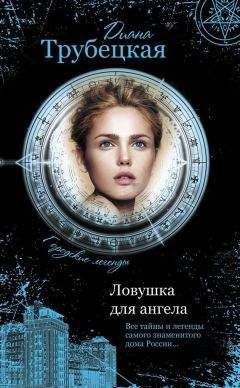Вячеслав Дегтев - Белая невеста
У множества отдыхающих на грудях могучих цепи из "рыжья", на холеных пальцах массивные "болты", полотенца в виде огромного доллара, плавки в расцветках государственного флага США. Всюду, во всем агрессивный культ денег, успеха любой ценой, бездумности, инфантильности, бездуховности. Из книг на развалах и в руках – самая попсовейшая попса. Даже "культовых" Пелевина с Акуниным – даже этих деятелей не видно. Куда этих – нет даже Марининой! Газеты – "Оракул", "Спид-инфо", "Тайная жизнь", "Интим". Даже желтейшая "Комсомолка" тут "не катит". Про "Завтра" киоскеры слыхом не слыхали. И угораздило же меня забраться в этакую дыру!
И вдруг в приморском занюханном ресторанчике, со странным, уж очень экзотическим названием – "Влюбленная анаконда" (какая еще анаконда? и в кого это она "влюблена"?), вдруг в одной из сотен прибрежных, заштатных, рядовых харчевен с пошловатым названием – вдруг старинные, русские, классические романсы! Да притом – под "живую музыку"! Под семиструнную гитару! Бывают же на свете чудеса. Репертуар Вертинского, Петра Лещенко, Вадима Козина и Алеши Димитриевича. На агрессивном фоне безликой и бесполой американизированной поп-культуры для "хавающего пипла" – вдруг неизвестно где и незнамо откуда – яркие осколки былого величия русской культуры и русского духа. Да, для меня это было по меньшей мере странно.
Наутро я пошел в библиотеку и прочитал все, что было о гитарных школах, о всех видах гитар, в частности, об испанской и о всех ее разновидностях, прочитал все о фламенко, узнал все виды фламенко. Узнал про итальянского композитора, который жил в Аргентине, по фамилии Берутти, у которого есть опера "Тарас Бульба" (кстати, еще у него есть опера о памперо, которая называется "Пампа"). Узнал, что в России живет композитор по фамилии Кортес, у которого написан балет "Последний инка". Узнал также, что в Испании считается непозволительным играть классические произведения в стиле фламенко, такому музыканту объявляют бойкот и не подают руки. А вот в Латинской Америке стилем фламенко играют совершенно все, вплоть до Моцарта и Бетховена, которых узнать без привычки, конечно же, трудновато. Оказалось, у фламенко несколько самостоятельных стилей-разновидностей. Это солеарис с разновидностями: марабас, караколес, белериас; сигирийяс с разновидностями; фандангос и тангос с разновидностями, среди которых румба хитана и самбра гарандина. И что чуть ли не в каждом регионе Латинской Америки существуют свои стили фламенко… И еще. Говоря о фламенко, один видный специалист отметил, что это по сути своей варварские аккорды, но в то же время -"удивительные открытия никогда не предполагавшихся возможностей".
После библиотеки я в очередной раз испытал чувство тоски от своего невежества. Сколько есть на свете еще такого, о чем я – ни сном, ни духом. И все это лежит-пылится в какой-то заштатной районной библиотеке, а рядом, в сотне шагов, на пляжах развалились тысячи распаренных тел, поглощенных чтением всяческой макулатуры. О, до чего ж еще несовершенен человек!
С такими мыслями дошел я до знакомого кабачка. На моем столике увидел табличку – "забронирован". Уже хотел было поискать другой столик, как вдруг официант, бросив на ходу мне "здрасьте", убрал у меня перед носом табличку и поставил бокал моего любимого "Сталинградского" темного. Мелочь, как говорится, пустячок…
Старого музыканта не было на месте. Я сидел за "своим" столиком, смотрел в даль синего моря, на зеленоватые покатые волны, на паруса одиноких яхт, которые, как легкокрылые птицы, чертили вдали ясный горизонт, кроили лазурный окоем, который казался только что созданным, до того неправдоподобно-чисты и ярки были краски, – и что-то рыдающее звучало во мне, что-то давешнее, восторженно-болезненное, некая старинная, возвышенная музыка, меланхоличная, до спазмов знакомая, чарующая мелодия полнила душу, какое-то странное, болезненное чувство не давало расслабиться и бездумно наслаждаться быстротекущей, с каждой минутой истончающейся, но все равно такой сладкой жизнью, истекающей, сочащейся, подобно морскому прохладному ветерку сквозь прорехи нагретого матерчатого тента… Не отдавая отчета в том, что делаю, я вырвал из блокнота чистый листок и стал изливать на него то, что не давало покоя, что полнило в последние дни сознание, хотя, казалось, все давно уже уснуло и лежало, притаившись, далеко-далеко запрятанное, на самом донышке души. Я писал письмо той, с которой помню всю свою жизнь, той, которая – я это знаю – до сих пор любит меня, не зря ведь и детей нарекла моим именем – Вячеслав и Владислав (но дети не мои!), которая, когда приезжает в станицу к матери, звонит мне и рассказывает обо всех своих заботах, как будто расстались мы вчера и никого у нее нет роднее меня.
"На заре туманной юности всей душой любил я милую…" – несется над гладью моря. А я писал, что до сих пор помню тот октябрьский теплый вечер, когда звали ее Аленкой, и наше стояние у калитки, где дремали плакучие задумчивые ивы, и одинокий месяц плыл в зыбучем тумане, и наши совсем еще детские мечтания о будущем, и мои слова о сокровенном, ставшие впоследствии вещими, что вот стану взрослым и сделаюсь писателем (почему именно писателем – да кто ж его знает?), напишу о казаках и об индейцах (о казаках уже написал), и что она… она будет моей неизменной музой белокурой… Однако этому не суждено было сбыться. "Не говори, что сердцу больно…". "Ах, меня не греет шаль…" – звучат старинные забытые романсы. А вот – "Гори, гори, моя звезда. Звезда любви заветная…" Я перепутал в армии письма, положил не то письмо не в тот конверт – и все рухнуло карточным домиком. Увы нам, увы!
Писал, что второй год приезжаю в Геленджик в надежде встретить ее, встретить случайно. "А по-над Доном сад цветет…" Хожу, брожу, шатаюсь неприкаянно чуть ли не круглые сутки по рынкам, по магазинам, по переулкам и проулкам, забредал даже на Тонкий Мыс, к грекам, и в Прасковеевку, к Скале-Парусу, – нет ее нигде, моей отрады, нет нигде. Хотя я точно знаю, я чувствую, что живет она, находится где-то совсем рядом. "Живет моя зазноба в высоком терему…"
Я писал, зная, что встреча не принесет нам ничего хорошего. И она тоже это знает наверняка, потому и не дает мне ни адреса, ни телефона геленджикского. А звонит сама – от матери, из станицы. Не принесет наша даже случайная встреча нам ни счастья, ни успокоения, уж очень много времени прошло, жизни наши слишком уж разные, слишком разные у нас судьбы. Но я хочу этой встречи, может, последней в жизни встречи, хочу, хотя и боюсь, боюсь разочарования, но все равно ищу ее, ищу и боюсь найти…
Я написал что-то еще – много получилось, – с обеих сторон исписал листок, выплеснул на клетчатое двухмерное пространство всего себя, все свое безмерное чувство, – да, я писал, пока не закончилась бумага. А потом свернул из той исписанной бумаги кораблик и бросил его в море.
Тут и появился мой знакомый музыкант. Узнать его сегодня было трудно. Он пришел в необычном, экзотическом костюме: на нем были узкие черные брюки, обшитые замысловатыми витыми узорами из галунов, полусапожки на высоких каблуках, белая шелковая рубашка с богатой вышивкой, короткая куртка с серебряными пуговицами, расшитая бисером, с яркой бахромой на рукавах, и широкий узорчатый пояс. Красный шейный платок был похож на пионерский галстук, на голове скрывала седину и морщины ослепительно-белая шляпа диковинной формы. Рядом с ним находился индеец Коля, одетый тоже в пеструю смесь всего латиноамериканского и индейского. Они так уверенно и привычно держали себя в этой экзотической одежде, что ничего маскарадного и экстравагантного в этом не чувствовалось. В руках у них были гитары какой-то странной непривычной формы – присмотревшись, понял, что гитары как раз индейские, с кузовами из панцирей броненосцев. Они ударили по струнам, и я словно провалился в сельву. Исполняли они, как было объявлено, вещицу Вила Лобоса: "В дебрях Амазонии".
8
…Итак, они благополучно прошли земли "кровожадных" арара, которые на прощанье подарили им по тяжеленной деревянной палице с зубами крупных аллигаторов в знак признания их целительского искусства: Вадиму удалось излечить двух пораненных ягуаром охотников, рваные раны которых затянулись с помощью паутины пауков-птицеловов, – обладание такими палицами возводило их чуть ли не в ранг вождей. Во всяком случае, персоны их становились неприкосновенными. Одно плохо – таскать такие дубины было тяжеловато…
За арара находилось не менее воинственное племя жури, у которых татуировки были на лице и лбу. Эти щеголяли обритыми наголо. И лишь на лбу, над татуировкой, – смоляной чуб.
А потом было племя паса, где народ оказался очень черный, хотя к негроидной расе не имел никакого отношения, скорее напоминал папуасов.
Однажды встретили в сельве племя кукана. Это были на редкость белокожие люди, и говорили они на языке, который показался очень знакомым. Хижина у них называлась – апартаментум, а лопата – алиментарум. Ба, да это же латынь! Правда, весьма искаженная. Когда Вадим заговорил с индейцами на латыни, и они стали его понимать, Педро ошарашенно посмотрел на него, не скрывая удивления: может, в самом деле колдун? Едва они освоились в этом племени, как их сводили в потаенное место, где оказался заброшенный древний город. Там были пирамиды с усеченными вершинами, при осмотре которых бросались в глаза древние рисунки лошадей и слонов. Индейцы были очень белокожие, много встречалось среди них шатенов, и рождались, как они уверяли, даже блондины. У некоторых были голубые глаза, а с зелеными и серыми – почти половина племени.