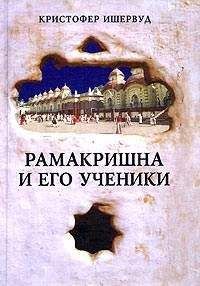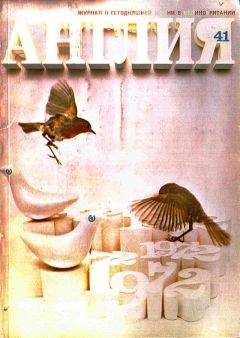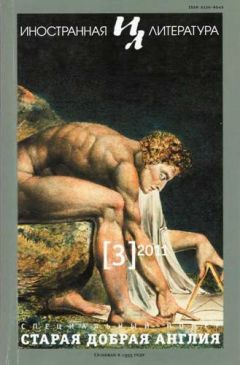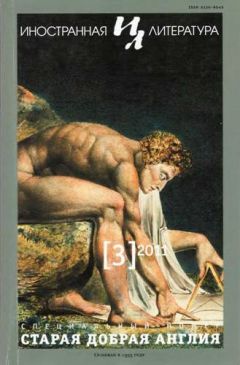Кристофер Ишервуд - Труды и дни мистера Норриса
Внезапно до меня дошло, что одной рукой я обнимаю девушку. Она уютно устроилась у меня на плече, в то время как с другой стороны некий юноша вполне любительски пытался залезть ко мне в карман. Я открыл было рот, чтобы заявить протест, но потом передумал. Зачем устраивать сцену под занавес такой чудесной ночи? Пускай его угощается моими деньгами. В лучшем случае там осталось марки три. Так или иначе, барон за все заплатит. В этот момент я увидел его лицо с почти микроскопической отчетливостью. Он, как я только что заметил, принимал искусственные солнечные ванны. Вокруг носа у него начала шелушиться кожа. До чего же славный человек барон! Я поднял в его честь стакан. Он блеснул рыбьим глазом у боксера из-под руки и сделал слабое ответное движение головой. Говорить он явно был не в состоянии. Когда я повернулся обратно, Артура и Анни на месте не оказалось.
Со смутным намерением пойти их поискать я нетвердо встал на ноги только для того, чтоб оказаться вовлеченным в разразившуюся тем временем с новой силой танцевальную горячку. Меня обнимали за талию и за шею, меня целовали, тискали, щекотали, меня раздели наполовину; я танцевал с девушками, с юношами, с двумя или тремя партнерами одновременно. До двери в противоположном конце комнаты я добрался минут через пять-десять, не раньше. За дверью оказался темный, хоть глаз коли, коридор, и в дальнем его конце — едва заметная искра света. Он был настолько плотно заставлен мебелью, что идти можно было только протискиваясь вдоль стен. Я успел, как мог, ощупью, добраться до середины, когда спереди, из освещенной комнаты, донесся отчаянный крик:
— Nein, nein! Не надо! О Господи! Hilfe! Hilfe![6]
Голос не узнать было невозможно. Они затащили туда Артура и теперь грабили его и били. Мне давно следовало догадаться. Мы с самого начала сваляли дурака, что вообще забрели в местечко вроде этого. Винить тут некого, кроме самих себя. Преисполнившись пьяной храбрости, я бросился в конец коридора и распахнул дверь.
Первой, кого я увидел, была Анни. Она стояла в самой середине комнаты. Артур в подобострастной позе скорчился у ее ног. Он успел расстаться еще с несколькими предметами туалета и теперь был одет легко, но вполне добропорядочно, в комплект розово-голубого шелкового нижнего белья, резиновый бандажный пояс и пару носков. В одной руке у него была щетка, а в другой — желтая ветошка для полировки обуви. Над ним нависла Ольга, угрожающе размахивая тяжелым кожаным хлыстом.
— И ты, свинья, называешь это чисткой! — жутким голосом возопила она. — А ну-ка заново, сию же минуту! И если найду хоть пятнышко грязи, так тебя отделаю, что неделю сидеть не сможешь.
И она подкрепила свои слова, крепко вытянув Артура хлыстом по ягодицам. Он взвизгнул от боли и наслаждения и с лихорадочной быстротой принялся надраивать Анни сапоги.
— Простите меня! Простите! — голос у Артура был пронзительный и радостный, как у играющего ребенка. — Перестаньте! Вы же меня убьете!
— Убить тебя мало, — тут же нашлась Ольга, стеганув его еще раз. — Я шкуру с тебя спущу!
— Ой! Ой! Не надо! Сжальтесь надо мной! Ой!
Шума от них было столько, что они даже не слышали, как я к ним вломился. Но теперь они меня заметили. Мое присутствие ни одного из них нимало не смутило. Более того, к Артуровым играм оно, кажется, добавило лишнюю толику пикантности.
— О боже! Уильям, спасите меня! Не желаете? Вы такой же зверь, как и все они. Анни, любовь моя! Ольга! Вы только посмотрите, что она со мной делает. Бог знает, чего они только надо мной сейчас не сотворят!
— Заходи-заходи, малыш, — с игривостью тигрицы воскликнула Ольга. — Погоди у меня! И до тебя дойдет очередь. Вот тогда ты у меня запоешь!
И она играючи вытянула меня хлыстом, после чего я пулей вылетел в коридор, а вослед мне неслись страдальчески-радостные выкрики Артура.
Несколько часов спустя я проснулся, калачиком свернувшись на полу и уткнувшись лицом в диванную ножку. Вместо головы у меня был паровозный котел — и жуткая ломота во всем теле. Праздник кончился. В разгромленной комнате в самых разных, но равно неудобных позах лежало с полдюжины человек. Сквозь жалюзи светило утро.
Убедившись, что ни барона, ни Артура среди павших нет, я выбрался меж безжизненных тел вон из квартиры, а затем вниз по лестнице, через внутренний двор и на улицу. Дом, казалось, был сплошь населен беспробудными пьяницами. Я не встретил ни единой живой души.
Вышел я в один из закоулков возле канала, неподалеку от станции Мёкленбрюке, примерно в получасе ходьбы от дома. На электричку денег не было. К тому же прогулка должна была пойти мне на пользу. И я неверным шагом двинулся домой по мрачным улицам, где с подоконников и волглых веток деревьев свисали спутанные ленты серпантина. Как только я переступил порог, домохозяйка встретила меня новостью, что Артур звонил уже трижды, интересовался, где я и как себя чувствую.
— Я всегда говорила: такой приличный господин. И такой деликатный.
Я согласно кивнул головой и отправился спать.
Глава четвертая
Фройляйн Шрёдер, моя домохозяйка, была от Артура положительно без ума. В телефонных разговорах она неизменно обращалась к нему Herr Doktor, что в ее устах представляло собой наивысший возможный знак уважения.
— Ах, это вы, Herr Doktor? Ну конечно же я вас узнала; я ваш голос узнаю из миллиона. Только какой-то он у вас нынче утром усталый. Опять вчера вернулись домой за полночь? Na, na,[7] уж меня-то, старуху, вам никак не обмануть; я знаю, что бывает с джентльменами, которые отправятся под вечер покутить… Что вы такое сказали? Как вам не стыдно! Ах вы льстец! Что ж, все вы мужчины одним миром мазаны; от семнадцати и до семидесяти… Pfui! Я вам удивляюсь… Да нет, конечно, ничего подобного я делать не стану! Ха-ха! Хотите поговорить с герром Брэдшоу? Да, конечно, а я совсем забыла. Одну минуту, я его сейчас позову.
Когда Артур заходил ко мне на чай, фройляйн Шрёдер надевала черное бархатное платье с низким вырезом и нитку вулвортских[8] жемчужин. Она выходила открыть ему дверь, с нарумяненными щеками и подведенными глазами, этакой карикатурой на Марию Шотландскую. Как-то раз я обратил внимание Артура на это сходство, и он пришел в восторг:
— Право, Уильям, какой вы недобрый. Вам пальца в рот не клади. Я начинаю всерьез опасаться вашего язычка, нет, в самом деле.
После этого случая он, говоря о фройляйн Шрёдер, почти неизменно упоминал о ней как о «Ее Величестве». Другим излюбленным эпитетом была La Divine[9] Шрёдер.
Как бы он ни спешил, у него всегда находилось время, чтобы пару минут пофлиртовать с ней; он покупал ей цветы, сигареты и сладости, он сопереживал малейшим недомоганиям ее чахлого кенаря Ханса. Когда в конце концов Ханс умер и фройляйн Шрёдер лила по нему слезы, мне показалось, что и Артур тоже вот-вот расплачется. Он был самым искренним образом расстроен. «Боже, боже мой, — повторял он. — Какая жестокая штука природа».
Остальным моим друзьям Артур понравился гораздо меньше. Я представил его Хелен Пратт, но знакомство как-то сразу не заладилось. В те времена Хелен состояла берлинской корреспонденткой одного из лондонских политических еженедельников и подрабатывала переводами и уроками английского языка. Иногда мы с ней передавали друг другу учеников. Миловидная и хрупкая на вид блондинка, а по сути настоящий кремень, она была выпускницей Лондонского университета и относилась к сексу всерьез. Как дни, так и ночи она привыкла проводить в сугубо мужском обществе, и общество дамское было, с ее точки зрения, ненужным излишеством. Она могла перепить на спор едва ли не любого из английских журналистов и время от времени так и делала, но скорее из принципа, нежели удовольствия для. При первом же знакомстве она с ходу начинала звать тебя по имени и сообщала о том, что ее родители торгуют в Шепердз-Буш табаком и сладостями. Это у нее называлось «проверкой», и от результатов оной, то есть от вашей непосредственной реакции, зависело ее дальнейшее к вам отношение: вы либо оказывались в числе ее друзей, либо же сразу могли катиться ко всем чертям. И прежде прочего Хелен терпеть не могла, когда ей напоминали о том, что она женщина: постель не в счет.
Я слишком поздно сообразил, что Артур совершенно не приспособлен к общению с такого рода женщинами. Она буквально с первой минуты откровеннейшим образом его напугала. Одним мановением руки она смела все те маленькие, отполированные до блеска формы вежливости, благодаря которым ему удавалось уберечь от синяков и ссадин свою нежную душу.
— А, привет, ребята, — сказала она, небрежно протянув нам руку поверх газеты. (Мы договорились встретиться в маленьком ресторанчике, сразу за Мемориальной церковью.)