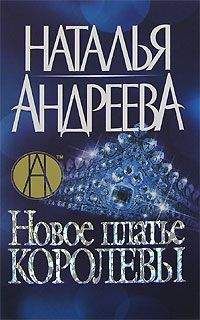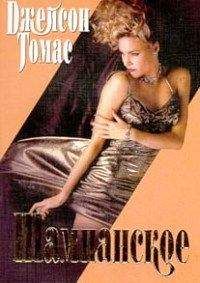Николай Климонтович - Последние назидания
Впрочем, вечером говорила как раз Светочка. Говорила ведь под твоим носом… под самым носом… как ты могла не слышать с кухни-то…
– Другое сошьем, – говорила бабушка подавленно.
– На что, на что… ведь только прошлым летом Юрочка мне купил, что ему-то скажем… мне и так ходить не в чем…
И она бурно заплакала. Я сидел на кровати за ширмой. Нет, меня не выпороли, хотя надо было бы: меня никогда не били, только увещевали.
Но я тоже шмыгал носом и давился слезами. Наверное, я больше никогда так сильно не любил свою мать, как в тот раз.
КАК ДАТЬ ПЕТУХА
Любовь бабушки к кошкам стала причиной того, что у меня на всю жизнь сложился скверный почерк: я опоздал в первый класс и пропустил начальные уроки чистописания. Дело вот в чем: татарин, стороживший химкинский совхозный сад, поздним летом застрелил из своей берданки нашего рыжего кота. Ответа на вопрос, зачем он это сделал, не было и нет. Ни в каких враждебных отношениях с бабушкой татарин не состоял, кот же никак не мог угрожать урожаю яблок, поскольку не ел даже мышей, а питался филе трески. Татары же в мое время, в свою очередь, не ели котов. Быть может, совхозный сторож, охраняя мир ботаники, пребывал во вражде не с нами именно, даже не конкретно с треской и котами, но со всем животным миром, включая кошачий.
Потерю друга от меня долго скрывали, но я вскоре и сам понял, что
Рыжий отправился в какое-то чудное дальнее путешествие в духе Жюля
Верна и по примеру капитана Немо. Я скучал, справлялся, нет ли от кота вестей, бабушка меня жалела, тоже печалилась. Иногда по вечерам я слышал из-за своей ширмы, как она говорила матери, что был, мол,
совсем как собака, такой умный . Я не мог понять, при чем тут собака, Рыжий сам по себе был замечательный и спал у меня в ногах.
Так или иначе, избывая горечь семейной утраты, бабушка в августе подобрала на улице двух кошек. В нашей комнате устоялся кошачий дух, на кухне из-под рук бабушки стали исчезать редкие в те годы рыбные и мясные продукты, а у меня на голове обнаружился стригущий лишай.
Дело с этим тогда обстояло сурово и строго: если амбулаторное лечение не давало скорых результатов, паршивца отправляли в специализированную больницу. Меня забрали в Сокольники накануне торжественного дня, когда я должен был впервые отправляться в школу.
В казенном доме всё домашнее с меня сняли, облачили в байковую форменную одежду, побрили наголо, завернули голову воняющей йодом парафиновой бумагой и надели больничный колпак.
В палате было человек пятнадцать-двадцать таких же, как я, бедолаг в парше. Некоторых, впрочем, лечили от вшей. Я оказался едва ли не самым младшим, семи лет от роду, все остальные были уже школьниками и очень радовались нежданному продлению каникул. Всё это были мальчики дворовые, из рабоче-крестьянских семей, драчливые, и в палате царили совершенно тюремные порядки, но меня за малостью никто не трогал, они разбирались сами с собой: устраивали темную тем, кто воровал из тумбочек, отстаивали лидерство. Удивительным образом у нас в России сам собой воспроизводится дух тюрьмы, едва для этого есть хоть малейшая возможность. В закрытых пансионах и интернатах, в детдомах, в казармах, даже в больничных палатах. Видимо, такое мироустройство, сказал бы человек начитанный, имманентно нашему национальному характеру. К тому ж отвечает и самому строю повседневной жизни, в котором так перемешаны принуждение, стукачество, скудость и тоска.
Социология нашей палаты была такова. Верховодил Вшивый Летуч, то есть здоровый малый-переросток по фамилии Летучев, довольно свирепый и не пребывавший временно в колонии лишь по недоразумению или малолетству, – старшие его братья, как он рассказывал с гордостью, все давно сидели. У него был подручный, очень маленький, меньше даже меня, но очень крепкий четырехклассник Вован, и всю грязную работу за вожака исполнял он: сортировал передачи, бил неугодных, держал масть . Остальные малолетние больные представляли собой шоблу безгласных и бесправных рядовых, и происходи дело не в стенах лечебного заведения, а на улице, то была бы это крепко сколоченная банда юной опасной шпаны. Вне организации оказались, как сказано, только я и второклассник Мишка-Еврей, как его здесь называли. Он и вправду был тихим еврейским мальчиком из бедной семьи – и, как я, домашний. Конечно, наше положение чужаков не могло нас не сблизить.
Развлечений было мало: так, байки перед сном. Ни о каком телевизоре, скажем, тогда речи не было. Книжек здесь никто не читал. Событиями становились: утренний осмотр, процедуры, еда четыре раза в день, оправка в общей уборной – по ночам полагались подкроватные горшки – и прогулки, конечно. Забавно, что горшки выносили нянечки, но Летуч и Вован всегда вызывались им помогать. То есть носил дерьмо, конечно, Вован, а Летуч был как бы бригадиром. И вся плата знала, в чем здесь дело, – в сортире они курили. А в палате в это время клубились восхищенные шепотки: папиросы дымят…
Больничный двор, куда нас выводили гулять, был обнесен высокой кирпичной стеной, совсем тюремной, разве что без колючки поверху.
Стена была необходима, поскольку больница эта была посвящена излечению кожных заболеваний. И совершенно логично, что стеной она была обнесена для отгораживания от внешнего, здорового, мира.
Но не только этой цели служила стена. Дело в том, что за оградой нашего учреждения помещалось другое, смежного профиля, а именно – женская венерологическая лечебница. Так что стена у нас и у сифилитичек была одна, что некогда позволило устроителям этого оазиса народного здравоохранения чуть сэкономить на стройматериалах и землеотводе.
Если наш двор был гол, только чахлые кустики и редкая трава, то у сифилитичек во дворе росли два замечательных тополя с обрубленными ветвями. Это был факт, значение которого выходило за рамки чисто ланд- шафтные. Дело в том, что после отбоя, когда врачи покидали стены учреждения, а нянечка запирала нашу палату на ключ, все наше население бросалось к окнам, стремясь занять место на подоконнике и поудобней устроиться на животе – по понятной предусмотрительности начальства окна именно детского отделения смотрели на смежное учреждение.
Темнело поздно, и все было отлично видно. Именно в это предвечернее время на тополях появлялись гроздья онанистов. А сифилитички устраивали для них стриптиз. Наверное, сифилитички видели и нашу детвору, но главными зрителями для них, конечно, были гнездовавшиеся на тополях, среди которых преобладали взрослые мужики. Нам с Мишкой тоже хотелось бы взглянуть, хотя суть дела для нас оставалась смутна. Но нас, конечно, к окнам не подпускали.
У всякого представления бывает финал, хотя бы потому, что августовское небо, наконец, наливалось темнотой, и проступали звезды. Летуч заваливался на койку – он занимал, разумеется, самое почетное место, у окна, и начинал петь. Репертуар у него был небогат, и кое-что из него я до сих пор помню, благо позже эти жестокие романсы стали классикой. Это были, разумеется, Из-за пары распущенных кос, Девушка из Нагасаки, В нашу гавань заходили корабли , но самая ударная была ухарская плясовая У них походочка, что в море лодочка …
Летуч требовал, чтобы все без исключения подпевали. Даже Мишка, даже я. Через неделю лечения я знал этот репертуар наизусть и подпевал, стараясь. Странное дело, но я ощущал гордость за то, что посредством хорового пения оказывался принят в компанию этих храбрых больших ребят, которые в предночный час казались мне теми самыми моряками, которые из-за пары распущенных кос : так лихи они были, так красивы в своей нахальной и наивной грубости.
И вот в один из этих прекрасных августовских вечеров, когда окна были открыты настежь, когда сифилитички напротив, угомонившись, тоже пели что-то жалостливое, тюремное, когда и наша палата дружно горланила что есть мочи, дверь распахнулась. Все мигом затихли, но я от старательности еще продолжал фистулить.
Это был ночной обход. Такие совершались не чаще раза в месяц. Вошел главный врач в халате, с ним пара молодых врачей и какой-то дядька, у которого халат был лишь наброшен на плечи. И поскольку моя кровать была ближе других к двери, то вся компания остановилась надо мной. Я пел:
А потом мне она изменила
И куда-то умчалася с другим.
Что поделаешь, милая мама,
Коль сын твой остался один!
Конечно, когда я обнаружил высоких слушателей, то затих, но тот, в наброшенном халате, сказал с улыбкой: ты пой, пой, хоть и даешь ты петуха… И вся палата весело заржала. Я же испуганно и послушно запел опять:
Часто ее образ вспоминается,
Вижу ее карие глаза,
Вижу я ее, с другим она шатается,
Бросила, покинула меня.
Комиссия реагировала живо – сначала пофыркивал лишь тот, в накинутом халате, за ним остальные. Я продолжал, будто завороженный:
Помню ночку темную осеннюю,
С неба мелко дождик моросил,