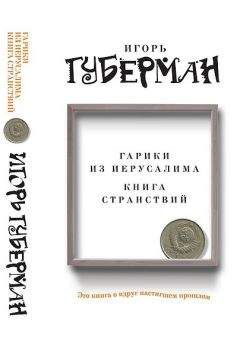Игорь Губерман - Гарики из Атлантиды. Пожилые записки
Свобода мне теперь все реже снится,
я реже говорю о ней теперь,
и вялых побуждений вереница
минует замурованную дверь.
А может быть, она, моя свобода,
и прячется в отказе от нее?
Доступны книги, радует природа,
и сладко мне гниение мое.
Я никогда не буду классик,
имея вкус к еде и пище
и тяготея больше к кассе,
чем к доле царственной и нищей.
Когда мучат житейские муки
и печаль душу вялую лижет,
я немедля беру себя в руки —
той подруги, которая ближе.
Извечно всякий фаворит
набить кубышку норовит,
поскольку нынче — фаворит,
а завтра — задница горит.
Пел и горланил, как петух,
крылами бил, кипел, как кочет;
устал, остыл, совсем потух,
теперь он учит и пророчит.
Бывает время в жизни каждой,
когда судьба скользит из рук,
и горизонта сердце жаждет,
и тупики молчат вокруг.
Когда, заметно делая добрее,
уже несет по устью нас река,
черты ветхозаветного еврея
являются в морщинах старика.
Я никогда не лез в начальство
не от боязни вылезать —
и сметки вдоволь, и нахальства,
но лень то лаять, то лизать.
Поэты любят бабьи ласки
помимо ласк еще за стих,
в котором, их предав огласке,
переживут вторично их.
От века не скрыться в бегах,
напрасны просторные степи,
бренчат на руках и ногах
любви беспощадные цепи.
Когда за нами, нас достойней,
пойдут иные поколения,
пускай заметят близость бойни
как фактор нашего мышления.
В молодых вырастая украдкой,
накаляет их вдруг до кипения
истерическая лихорадка
исторического нетерпения.
Я слушаю в сладостной дрожи,
любуясь, как степью — монгол,
когда из пустого в порожнее
божественный льется глагол.
Я много лет себя искал
во многом множестве занятий
и вдруг нашел: держа стакан
с подругой около кровати.
Вот человек. При всяком строе
болел, работал, услаждался
и загибался, не усвоив,
зачем он, собственно, рождался.
Радостнее дни б мои текли,
я бы не печалился, мудила,
если б ось вращения земли
через мой пупок не проходила.
Если стих не рвется на пространство,
большее, чем видит злоба дня,
то страдает печенью от пьянства
Прометей бенгальского огня.
Известно всем теперь отныне
из наших опытов крутых:
союз мерзавцев со святыми
опасен только для святых.
Вдруг смешно до неприличия
в душной тьме кромешных дней:
чем трагедия трагичнее,
тем фрагменты в ней смешней.
Увы нашей бренной природе:
стареем, ветшая, как платья,
и даже пороки проходят,
и надо спешить потакать им.
Терпимость Бога в небесах —
терпенье по необходимости:
Он создал сам и терпит сам
наш нестерпимый дом терпимости.
Люблю сидеть в уюте света,
вина, тепла и жирной утки,
где разглагольствуют эстеты,
а им внимают эстетутки.
Часы летят, как космонавты,
спаляя месяцы дотла,
ползут в глухое послезавтра
позавчерашние дела.
Еще не чужды мы греху,
но песни главные отпеты,
и у детей горит в паху
огонь бессмертной эстафеты.
Есть личности — святая простота
играет их поступки, как по нотам,
наивность — превосходная черта,
присущая творцам и идиотам.
Лицо нещадно бороздится
следами болей и утрат,
а жопа — нежно гладколица,
поскольку срет на все подряд.
Кровава и гибельна резкая ломка
высоких и древних запретов,
Россия сказала об этом негромко,
поскольку убила поэтов.
В повадках светит седина,
в зубах — нехватка до комплекта,
душа проедена до дна
свирепой молью интеллекта.
За женитьбу есть научный
и весьма весомый довод:
холостым повсюду скучно,
а женатым — только дома.
Порой астрономы бранятся,
перо самописца дрожит —
опять на Летучем Голландце
развозит мацу Вечный Жид.
Конечно, в жизни слишком часты
мерзавцы, воры и пропойцы,
но всех страшней энтузиасты,
романтики и добровольцы.
Традиции наши — крутые,
зато мы ничуть не лукавим:
убитого пишем в святые,
живого — собаками травим.
Отчизны верные сыны,
горячим рвением полны,
отчизны верных дочерей
мы превращаем в матерей.
Когда кричали мне, что надо —
вперед, вперед! — я думал часто,
что превосходно к цели задом
идут гребцы и педерасты.
Женщине к лицу семья и дом,
гости и бесцельные расходы;
занятая умственным трудом,
женщина грешит против природы.
Что толку в самом райском рае,
где им отводится квартира,
тем, кто насильно умирает
на перекрестках судеб мира?
В России бюджет и финансы
глубокой загадкой богаты:
доходы от общего пьянства —
обильнее общей зарплаты.
Чем ниже вниз, тем ниже страсти;
а наверху? Наоборот?
Народ своей достоин власти,
а ей за что такой народ?
С утра садятся ребе
бутылку распивать,
потом кидают жребий —
и я бегу опять.
Чем ближе мы к земле и праху,
тем умудренней наш покой —
где юность ломится с размаху,
там старость пробует клюкой.
Люблю в беседах элемент
судьбы миров и звездной пыли
как тонкий аккомпанемент
к опустошению бутыли.
Азарт любовного пылания
с годами горестно меняется:
в душе горит огонь желания,
а тело — не воспламеняется.
Есть внутренняя музыка судьбы,
в душе ее мелодии играют,
и, внемля ей, безумствуют рабы,
а вольные — свой путь соразмеряют.
Подвижник нами душится стремительно
в обильных обвинениях нелживых,
служение смешно и подозрительно
для служащих, прислуги и служивых.
Вот человек: высок и низок,
до гроба предан и предатель,
вчера враждебен, завтра близок,
герой в огне и трус в халате.
Удачливость судьбы или провальность —
различны в переменном освещении,
фортуна — субъективная реальность,
даруемая в личном ощущении.
Повсюду люди заводились,
уже земные обитатели,
где с обезьянами сходились
ракет межзвездных испытатели.
Кто-нибудь, кто юрче и хитрее,
должен быть виновен и в ответе —
следовало выдумать еврея,
если б его не было на свете.
Жизнь — одоление материи,
пространства, времени, природы,
а не кретинства, лицемерия
и хамства гнилостной породы.
Путем непрямым, но фатальным
спешат наши судьбы куда-то,
вершатся исходом летальным,
и дни обращаются в даты.
У Фрумы — характер угрюмый,
но женский у Фрумы талант:
Абрам в обрамлении Фрумы
стал чистой воды бриллиант.
Какая это дивная затея —
стихи писать, слова перебирая,
то жарко от удачи холодея,
то холодно свой пламень озирая.
На плаху здесь возводится струна,
и рвут ее — нет звука безобразней,
азартно аплодирует страна
и плачет, расходясь от места казни.
Счастье всем, лишь выигрыши знавшим,
что же до других в житейской гуще —
сдавшимся страшней, чем проигравшим,
думать о бессоннице грядущей.
Наряды стали вдруг длиннее,
навязан бабам жуткий стиль —
международные евреи
реализуют свой текстиль.
Поступки выбирая, как дорогу,
беречь лицо храню обыкновение,
лицо мы обретаем понемногу,
теряем — за единое мгновение.
Изведавшие воздуха тюрьмы
полны необъяснимой ностальгии,
пожизненно уже другие мы,
не лучше и не хуже, но другие.
В любом из разных мест,
где мы ютимся вместе,
одни несут свой крест,
другие — носят крестик.
Устройство мироздания посредственно,
как циники твердят и старики:
все худшее случается естественно,
хорошее — творится вопреки.
Конечно, дважды два — всегда четыре,
конечно, неизменны расстояния,
но все, что мы любили в этом мире,
прекраснеет в минуты расставания.
С годами дни становятся короче,
несбывшееся вяжется узлом
и полнятся томительные ночи
пленительными снами о былом.
Я верю в честность, верю в честь,
но зорок без отдохновения:
у всякой нравственности есть
свой личный камень споткновения.
Нисколько нет особого геройства
в азарте, игровом и добросовестном,
но ценное и редкостное свойство —
умение проигрывать с достоинством.
Отменно, что пожить нам довелось.
Что коротко — единственная жалость.
Работа проедает нас насквозь,
а близкие изводят, что осталось.
Раздвоение и нужно, и возможно
в нашем деле, неизвестностью чреватом,
будь безумен в созидании, художник,
но трезвей, имея дело с результатом.
Застенчив и самонадеян,
всегда с людьми, везде один,
меж русских был я иудеем,
а меж евреев — славянин.
Нас постепенно жизни проза
любовно гладит по щекам,
и слезы раннего склероза
текут из глаз по пустякам.
Нет пока толпы на лобном месте,
нет еще трезвона с каланчи,
в дружеском застолье с нами вместе
завтрашние наши палачи.
Мы за вождями дружной гущей
готовы лезть в огонь и воду,
властям опасен лишь непьющий,
но он враждебен и народу.
Мы все учились понемногу,
сменив учебники не раз,
и неспособность к диалогу
апломбом зубы скалит в нас.
Клеймя то подлецов, то палачей,
мы нежимся, заочный суд устроив,
но счастливы — от мерзких мелочей
в характерах талантов и героев.
Приходят, проходят, стираются годы,
слетает, желтея, исписанный лист,
прозрачен и призрачен воздух свободы,
тюремный — удушлив, тяжел и нечист.
С утра в себе огонь мы легче тушим
и многие слова берем назад,
но утренняя трезвость нашим душам
вреднее, чем полуночный азарт.
Жена — в тоску, в запой — шалава,
а сам усоп — и был таков,
и над могилой веет слава —
коктейль восторгов и плевков.
Наш век иных тем удивительней,
что обеляет много тщательней
святых лжецов, святых растлителей,
святых убийц-доброжелателей.
Я вновь ушел в себя. С раскрытым ртом
торчу, забыв о мире, что вовне:
пространство между Богом и скотом
свободно помещается во мне.
В себе я много раз их узнавал —
те чувства, что вскипают вереницей,
когда вступает в жизнь провинциал
в надменной и насмешливой столице.
Ничуть не думая о смерти,
летишь, чирикая с утра,
а где-то случай крутит вертел
и рубит ветки для костра.
Заботы будней повседневны,
мы ими по уши загружены,
и где-то спящие царевны
без нас окажутся разбужены.
Я в литературе жил цыганом:
жульничал, бродяжничал и крал,
ставки назначал с пустым карманом
и надрывно клялся, если врал.
Нет, я не жалею, как я прожил
годы искушений и подъема,
жаль, что население умножил
меньше, чем какой-нибудь Ерема.
Пользуясь остатком дарований,
вычеркнув удачи и успехи,
я кую из разочарований
плотные душевные доспехи.
Славы нет — наплевать, не беда,
и лишь изредка горестно мне,
что нигде, никогда, никуда
я не въеду на белом коне.
Живу я много лет возле огня,
друзья и обжигались, и горели,
фортуна бережет пока меня
для ведомой лишь ей неясной цели.
Ах, девицы, еврейскими шутками
не прельщайтесь, идя вдоль аллеи,
у евреев наследственность жуткая:
даже дети их — тоже евреи.
Пристрастием не снизив бескорыстие,
в моделях постигая бытие,
искусство отвечает не за истину,
а лишь за освещение ее.
Во все подряд я в юности играл,
затягивался радостью, как дымом,
и ногу по-собачьи задирал
везде, где находил необходимым.
Умей дождаться. Жалобой и плачем
не сетуй на задержку непогоды:
когда судьба беременна удачей,
опасны преждевременные роды.
Увы — служители культуры,
сомкнув талантливые очи,
за безопасность и купюры
сдаются много раньше прочих.
Ни бедствий боль, ни тяготы лишений
с путей моих не вывихнут меня,
но дай мне Бог во дни крутых решений
с друзьями проводить остаток дня.
Мы ищем тайны тьмы и света,
чтоб стать самим себе ясней,
но чем прозрачней ясность эта,
тем гуще мистика за ней.
Чужую беду ощущая своей,
вживаясь в чужие печали,
мы старимся раньше и гибнем быстрей,
чем те, кто пожал бы плечами.
Набив на окна быта доски,
пришла пора скитаний вольных,
уже в крови скрипят повозки
моих прапредков беспокойных.
Я не распутник по природе,
но и невинность не храню,
в безгрешной плоти дух бесплоден
и разум сохнет на корню.
Путая масштабы и каноны,
вовсе не завися от эпохи,
рыцарей съедают не драконы,
а клопы, бактерии и блохи.
Где дух уму и сердцу не созвучен,
раздвоен человек и обречен,
самим собой затравлен и замучен,
в самом себе тюремно заключен.
В подвижном земном переменчивом мире
с душой совершаются странные вещи:
душа то становится чище и шире,
а то усыхает, черствея зловеще.
Текут рекой за ратью рать,
чтобы уткнуться в землю лицами;
как это глупо — умирать
за чей-то гонор и амбиции.
Я сам пройду сквозь гарь и воду
по вехам призрачных огней,
я сам найду свою свободу
и сам разочаруюсь в ней.
Любимым посвятив себя заботам
и выбрав самый лучший из путей,
я брею бороденки анекдотам,
чтоб выдать их за собственных детей.
Зеленый дым струит листва,
насквозь пронизывая души,
и слабый лепет естества
трубу тревоги мягко глушит.
Российские штормы и штили
ритмично и сами собой,
меняясь по форме и в стиле,
сменяют разбой на разбой.
Я живу постоянно краснея
за упадок ума и морали:
раньше врали гораздо честнее
и намного изящнее крали.
Традиций и преемственности нить
сохранна при любой неодинакости,
историю нельзя остановить,
но можно основательно испакостить.
Я много прочитал глубоких книг
и многое могу теперь понять,
мне кажется, я многого достиг,
но именно чего, хотел бы знать.
Даром слов на ветер не бросая,
жалость подавив и обожание,
гибелью от гибели спасая,
форма распинает содержание.
Россия — это некий темный текст,
он темностью надменно дорожит,
и зря его, смотря из разных мест,
пытается постичь различный жид.
За животной человеческой породой
непрестанно и повсюду нужен глаз,
лишь насилие над собственной природой
кое-как очеловечивает нас.
В остывшей боли — странная отрада
впоследствии является вдруг нам:
полны тоски отпущенники ада,
и радость их — с печалью пополам.
Синий сумрак. Пустынная будка.
Но звонить никому неохота.
И душа так замызгана, будто
начитался стихов идиота.
С того мы и летим, не озираясь,
что нету возвращения назад;
лишь теплятся, чадя и разгораясь,
отчаянье, надежда и азарт.
Печалясь в сезоны ненастья
и радуясь дню после ночи,
мы щиплем подножное счастье,
не слишком тоскуя о прочем.
Творец устроил хитро, чтоб народ
несведущим был вынужден рождаться:
судьбу свою предвидя наперед,
зародыш предпочел бы рассосаться.
Оборвав прозябанье убогое
и покоя зыбучий разврат,
сам себя я послал бы на многое,
но посланец, увы, трусоват.
Когда не корчимся в рыдании,
мы все участвуем в кишении —
то в озаренном созидании,
то в озверелом разрушении.
Отжив земное время на две трети,
учась у всех, не веря никому,
я рано обнаружил и заметил
недружественность опыта уму.
Среди бесчисленного сада
повадок, жестов, языков
многозначительность — услада
высоколобых мудаков.
Смущай меня, смятенья маета,
сжигай меня, глухое беспокойство,
покуда не скатился до скота
и в скотское не впал самодовольство.
Забавно мне: друзьями и соседями
упрямо, разностильно и похоже
творится ежедневная трагедия,
где жертва и палач — одно и то же.
Увы, когда от вечного огня
приспичит закурить какой из дам —
надеяться не стоит на меня,
но друга телефон я мигом дам.
Я влачу стандартнейшую участь,
коя мне мила и необидна,
а моя божественная сущность
лишь моей собаке очевидна.
В кишеньи брезгуя погрязть,
души своей ценя мерцание,
отверг я действие и страсть,
избрав покой и созерцание.
Вполне собою лишь в постели
мы смеем быть, от века прячась,
и потому на самом деле
постель — критерий наших качеств.
Тьмы совершенной в мире нет:
в любом затменьи преходящем
во тьме видней и ярче свет
глазам души, во тьму глядящим.
Все творческие шумные союзы
основаны на трезвой и неглупой
надежде изнасилованья Музы
со средствами негодными, но группой.
Вконец устав от резвых граций,
слегка печалясь о былом,
теперь учусь я наслаждаться
погодой, стулом и столом.
Нам жены учиняют годовщины,
устраивая пиршество народное,
и, грузные усталые мужчины,
мы пьем за наше счастье безысходное.
Когда родник уже иссяк
и слышно гулкое молчание,
пусты потуги так и сяк
возобновить его журчание.
И жить легко, и легче умирать
тому, кто ощущает за собой
высокую готовность проиграть
игру свою в момент ее любой.
Пылким озарением измучен,
ты хрипишь и стонешь над листом —
да, поэты часто пишут лучше,
чем когда читаешь их потом.
Не осуждай меня, Всевышний,
Тебе навряд ли сверху внятно,
как по душе от рюмки лишней
тепло струится благодатно.
Жил бы да жил, не тужа ни о чем,
портит пустяк мой покой:
деньги ко мне притекают ручьем,
а утекают — рекой.
Любую стадную коммуну
вершит естественный финал:
трибун восходит на трибуну,
провозглашая трибунал.
Не зря мои старанья так упорны:
стишки мои похожи, что не странно,
законченным изяществом их формы —
на катышки козла или барана.
Вот чудо: из гибельной мглы
бежишь от позора и муки,
а в сердце осколок иглы
вонзается болью разлуки.
Ни в чем и ни в ком не уверен,
сбивается смертный в гурты,
колебля меж Богом и зверем
повадки свои и черты.
Добро, набравши высоту,
зла непременно достигает,
а тьма рождает красоту
и свету родственно мигает.
Как начинается служение?
Совсем не в умственном решении.
А просто душу мучит жжение
и отпускает при служении.
Мягчайшим расстилаются ковром,
полны великодушия и жалости,
любовью одержимы и добром
убийцы, отошедшие по старости.
Судьба то бьет нас, то голубит,
но вянет вмиг от нашей скуки:
фортуна — женщина и любит,
чтоб к ней прикладывали руки.
В моде нынче — милая естественность
полной слепоты и неготовности,
знание — жестокая ответственность,
а наивность — паспорт невиновности.
В нас много раскрывается у края
и нового мы много узнаем
в года, когда является вторая
граница бытия с небытием.
Если б еще бабы не рожали —
полный наступил бы перекур;
так уже бедняжки возмужали,
что под юбку лезут к мужику.
В период войн и революции
не отсидеться в хате с края —
мы даже чай гоняем с блюдца,
кому-то на руку играя.
Душа летит в чистилище из морга,
с печалью выселяясь на чердак:
создавши мир, Бог умер от восторга,
успев лишь на земле открыть бардак.
Еврейский дух силен в компоте
духовных помыслов и тем,
но больше нас — без крайней плоти
и крайне плотских вместе с тем.
В тот час, когда Всевышний Судия,
увидев, как безоблачно я счастлив,
долил мне слез в кастрюлю бытия,
день был угрюм, неярок и ненастлив.
Горел тупой азарт во всех глазах,
толпа ногами яростно сучила,
моя кастрюля стыла в небесах,
и радость в ней слегка уже горчила.
Себя отделив от скотины,
свой дух охраняя и честь,
мы живы не хлебом единым —
но только покуда он есть.
Злые гении природы
над Россией вьются тучей,
манит их под наши своды
запах выпивки могучий.
Бутылка стоит истуканом,
свой замысел пряча на дне:
пожертвовав душу стаканам,
теплом возродиться во мне.
Смотрю косым на правду взглядом,
боюсь ее почти всегда:
от правды часто веет смрадом
доноса, сыска и суда.
Что-то поломалось на Руси
в самой глубине ее основ:
дети еще только пороси.,
а уже ухватка кабанов.
Какой выразительной пластики в лицах
добилась природа, колдуя над ликом:
такое под утро однажды приснится —
и в липком поту просыпаешься с криком.
Еще я имею секреты
и глазом скольжу по ногам,
но дым от моей сигареты
уже безопасен для дам.
Мир запутан и таинственен,
все в нем смутно и темно,
и дороги к чистой истине
пролегают сквозь гавно.
Соль услады слабаков,
тонкий звук на ножках хилых —
на пространстве всех веков
смех никто убить не в силах.
В житейскую залипнув паутину,
не думая о долге перед вечностью,
ищу я золотую середину
меж ленью, похуизмом и беспечностью.
Знать важно — с кем, важны последствия,
а также степень соответствия,
когда учтен весь этот ряд,
то ебля — вовсе не разврат.
Если в бабе много чувства
и манерная манера,
в голове ее — капуста
с кочерыжкой в виде хера.
Судьбой доволен и женой,
живу, копаясь в пыльных книжках,
и крылья реют за спиной,
и гири стынут на лодыжках.
Никто не знает час, когда
Господь подует на огарок:
живи сегодня — а тогда
и завтра примешь как подарок.
Вслед гляжу я обязательно,
как, нисколько не устав,
девка вертит обаятельно
тазоветреный сустав.
Порой нисходит Божья милость,
и правда сказке подражает:
недавно мне соседка снилась,
и вот на днях она рожает.
Бог, изощренный в высшей мере,
коварной скрытности лишен —
о чем узнав, мудак уверен,
что сыщет истину лишь он.
Где-то уже возле сорока,
глядя вверх медлительно и длинно,
вдруг так остро видишь облака,
словно это завтра будет глина.
Убийственны разгулы романтизма,
но гибельна и сонная клоака;
безумие страшней идиотизма,
но чем-то привлекательней, однако.
У всех мировоззренческих систем
позвякивает пара слабых ноток;
оккультные науки плохи тем,
что манят истеричных идиоток.
Ночная жизнь везде кипит,
над ней ни век, ни вождь не властен,
взор волооких волокит
сочится липким сладострастьем.
Пускай пустой иллюзией согреты
бывали все надежды на Руси —
однако же вращаются планеты
вокруг воображаемой оси.
С утра пирует суета,
чуть остывая ближе к ночи,
бездарной жизни пустота
себя подвижностью морочит.
Уже меня утехи карнавала
огнем не зажигают, как ни грустно,
душа светлеет медленно и вяло,
смеркается — стремительно и густо.
Скитаясь вдоль по жизни там и тут,
я вижу взором циника отпетого:
печалит нас не то, что нас ебут,
а степень удовольствия от этого.
Дух и облик упрямо храня,
я готов на любые утраты;
если даже утопят меня —
по воде разойдутся квадраты.
Старость не заметить мы стараемся:
не страшась, не злясь, не уповая,
просто постепенно растворяемся,
грань свою с природой размывая.
Похожесть на когдатошних мещан
почел бы обыватель комплиментом,
бедняга так пожух и обнищал,
что выглядит скорей интеллигентом.
Увы, как радостно служить
высокой цели благородной,
ради которой совершить
готов и вправе что угодно.
У вождей нынче нравы — отцовские,
мы вольнее о жизни судачим,
только камни свои философские,
как и прежде, за пазуху прячем.
Бессильны согрешить, мы фарисействуем,
сияя чистотой и прозорливостью;
из молодости бес выходит действием,
из старости — густой благочестивостью.
С утра вечерней нету боли,
в душе просторно и в груди,
и ветровое чувство воли
обманно разум бередит.
Вдруг манит жизнь: я много проще,
и ты, поверить ей готовый,
влипаешь вновь, как кура в ощип,
и пьешь огнем свой опыт новый.
Чем меньше умственной потенции
и познавательной эрекции,
тем твердокаменней сентенции
и притязательней концепции.
Вот человек. В любой неволе
с большой охотой может жить:
пугай сильней, плати поболе,
учи покоем дорожить.
Здесь темнее с утра, чем ночью,
а преступники — не злодеи,
здесь идеями дышит почва
и беспочвенны все идеи.
Ложь нам целебна и нужна,
и нами зря она судима,
для выживания важна
и для любви необходима.
А ты спеши — пока горяч, пока наивен —
себя растрачивать — со смыслом или без —
необратим, неотвратим и непрерывен
оскудевания естественный процесс.
Бесчувственно чистый рассудок
с душой вещевого мешка
и туп, как набитый желудок,
и прям, как слепая кишка.
Построив жизнь свою навыворот
и беспощадно душу мучая,
с утра тащу себя за шиворот
ловить мышей благополучия.
Вокруг ужасно стало много
булыжных рыл кирпичной спелости;
украв у детства веру в Бога,
чего мы ждем теперь от зрелости?
Мы с детства уже старики,
детьми доживая до праха;
у страха глаза велики,
но слепы на все, кроме страха.
Мы травим без жалости сами
летящего времени суть,
мгновений, утраченных нами,
сам Бог нам не в силах вернуть.
Пока дыханье теплится в тебе,
не жалуйся — ни вздохами, ни взглядом,
а кто непритязателен к судьбе,
тому она улыбчива и задом.
Высоких мыслей пир высокий,
позоря чушь предубеждений,
не сушит жизненные соки
других прекрасных услаждений.
Я многих не увижу новых мест
и многих не изведаю волнений,
нас цепко пригвождает мягкий крест
инерции и низменных сомнений.
По счастью, певчим душам воздается
упрямство непрестанного труда,
чем больше забирают из колодца,
тем чище и живительней вода.
Кровавых революций хирургия
кромсает по нутру, а не по краю,
ланцетом ее правит ностальгия
по некогда утраченному раю.
Наш воздух липок и сгущен
и чем-то дьявольски неладен,
дух изощренно извращен
и прямодушно кровожаден.
Стирая все болевшее и пошлое,
по канувшему льется мягкий свет,
чем радужнее делается прошлое,
тем явственней, что будущего нет.
Помилуй, Господи, меня,
освободи из тьмы и лени,
пошли хоть капельку огня
золе остывших вожделений.
В духовности нашей природы —
бальзама источник большой,
и плоть от любой несвободы
спасается только душой.
Наследственность — таинственный конверт,
где скрыты наши свойства и возможности,
источник и преемственности черт,
и кажущейся противоположности.
Зыблется житейская ладья —
именно, должно быть, оттого
прочность и понятность бытия
нам дороже качества его.
В любой любви — к лицу или святыне,
какую из любвей ни назови,
есть сладкая докучливость в рутине
обряда проявления любви.
А может быть, и к лучшему, мой друг,
что мы идем к закату с пониманием,
и смерть нам открывается не вдруг,
а легким каждый день напоминанием.
Дни бегут, как волны речки,
жизненным фарватером,
то ебешься возле печки,
то — под вентилятором.
Прошла пора злодеев мрачных,
теперь убийцы — как сироп,
и между дел на грядках дачных
разводят розы и укроп.
А всякое и каждое молчание,
не зная никакого исключения,
имеет сокровенное звучание,
исполненное смысла и значения.
Повсюду, где варят искусство
из трезвой разумной причины,
выходит и вяло, и грустно,
как секс пожилого мужчины.
Песочные часы бегут быстрей,
когда бесплодно капанье песка;
нет праздничности в праздности моей,
удушливой, как скука и тоска.
У нас беда: у нас боязни
и страхи лепятся на месте
любви, сочувствия, приязни,
желаний, совести и чести.
Смотрясь весьма солидно и серьезно
под сенью философского фасада,
мы вертим полушариями мозга,
а мыслим — полушариями зада.
Россия непостижна для ума,
как логика бессмысленна для боли;
в какой другой истории тюрьма
настолько пропитала климат воли?
По счастью, есть такие звуки,
слова, случайности и краски,
что прямо к сердцу кто-то руки
тебе прикладывает в ласке.
Мы еще ушли совсем немного
от родни с мохнатыми боками,
много наших чувств — четвероного,
а иные — даже с плавниками.
Во времена тревог и хруста
сердца охватывает властно
эпидемическое чувство
томящей зыбкости пространства.
Мы пили жизни пьяный сок
и так отчаянно шустрили,
что нынче сыпем не песок,
а слабый пых мучнистой пыли.
Я много в этой жизни пережил,
ни разу не впадая в жалкий плач,
однако же ничем не заслужил
валившихся везений и удач.
Пока поэт поет, его не мучает
отчаяние, страх и укоризна,
хотя лишь дело времени и случая,
когда и как убьет его отчизна.
Спасибо, Россия, что ты
привила мне свойство твое —
готовность у крайней черты
спокойно шагнуть за нее.
Свистит соблазн, алкая денег,
а я креплюсь, угрюм и тих,
былых утех роскошный веник
подмел казну штанов моих.
Отрава тонких замечаний
нам потому как раз мучительна,
что состоит из умолчаний
и слов, звучащих незначительно.
Я из людей, влачащих дни
со мною около и вместе,
боюсь бездарностей — они
кипят законной жаждой мести.
Мне тяжко тьму задач непраздных
осилить силами своими:
во мне себя так много разных,
что я теряюсь между ними.
Заметно и причудливо неровен
и, тая вдруг до вакуума вплоть,
дух времени бывает бездуховен —
тогда оно втройне лелеет плоть.
Лежу в дыму, кропаю стих,
лелею лень и одинокость,
и пусть Господь простит мне их,
как я простил Ему жестокость.
Я не люблю певцов печали,
жизнь благодатна и права,
покуда держится плечами
и варит глупость голова.
Знакома всем глухая робость,
когда у края вдруг шатает:
нас чувство тихо тянет в пропасть,
но разум за руку хватает.
Свирепые бои добра со злом
текут на нескончаемом погосте,
истории мельчайший перелом
ломает человеческие кости.
Себя не смешивая с прочими,
кто по шоссе летел, спеша,
свой век прошел я по обочине,
прозрачным воздухом дыша.
Прекрасно, что пружиной, а не ношей
все тело ощущаешь ты свое,
но, прыгая, однако же, на лошадь,
не стоит перепрыгивать ее.
По книгам я скитался не напрасно,
они удостоверили меня
в печали, что создание прекрасного
и нравственность — нисколько не родня.
В нас дышит и, упорствуя, живет
укрытая в печаль и мешковатость
готовая в отчаянный полет
застенчивая тайная крылатость.
От уцелевшего кого
узнать бы, как тут жили встарь,
да жаль, не спросишь ничего
у мухи, впекшейся в янтарь.
Зачем я текучкой завален
и дух, суетясь, мельтешит?
Народ потому гениален,
что он никуда не спешит.
Совсем не с миром порывает
самоубийца, мстя судьбе,
а просто трезво убивает
себя, враждебного себе.
Я не судья в делах морали,
но не осиливаю труд
себя удерживать, где срали
друг другу в душу или срут.
Судьбой, природой, Божьей властью,
но кем-то так заведено,
что чем постылей наше счастье,
тем комфортабельней оно.
Есть вещи, коих ценность не воспета,
однако же нельзя не оценить,
как может нам порою сигарета
крутую вспышку гнева отменить.
В Москве я сохранил бы мавзолей
как память о повальном появлении
безумных и слепых учителей
в помешанном на крови поколении.
Бог, собирая налоги, не слышит
стонов, текущих рекой,
плата за счастье значительно выше
платы за просто покой.
Кто умер, кто замкнулся, кто уехал…
Брожу один по лесу без деревьев,
и мне не отвечает даже эхо —
наверно, тоже было из евреев.
С ногтей младых отвергнув спешку,
не рвусь я вверх, а пью вино,
в кастрюлях жизни вперемежку
всплывают сливки и гавно.
Зачем живем, не знаем сами,
поддержку черпая из фляг,
и каждый сам себе Сусанин,
и каждый сам себе — поляк.
Сочиняю чушь и вздор, пью коньяк,
не стыжусь ни злачных мыслей, ни мест,
а рассудок, текстуальный маньяк,
неустанно оскопляет мой текст.
Надо жить, желанья не стреножа,
а когда неможется немножко,
женщина, меняющая ложа, —
лучшая на свете неотложка.
Жизнь моя проходит за стеной,
вхожи лишь жена, друзья и дети,
сломится она только войной
или хамским стуком на рассвете.
Весной прогулки длятся поздно,
девицы ждут погожих дней,
чтобы увидеть в небе звезды,
поскольку лежа их видней.
Не будет ни ада, ни рая,
ни рюмки какой-никакой,
а только без срока и края
глухой и кромешный покой.
Своей судьбы актер и зритель,
я рад и смеху, и слезам,
а старость — краткий вытрезвитель
перед гастролью в новый зал.
Память вытворяет все, что хочет,
с фильмами, скопившимися в ней,
часто по ночам нам снятся ночи
выгоревших юношеских дней.
Когда б от воздуха тюрьмы
светлели души и умы,
давно была б земля отцов
страной святых и мудрецов.
Чем дольше в мире я живу,
тем выше ставлю обывателей,
что щиплют мирную траву
и шлют орлов к ебене матери.
Хотя глядят на них в кино,
ценя, когда крута игра,
и сыплют теплое гавно
в посев покоя и добра.