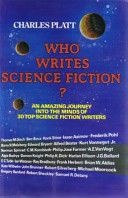Семен Чухлебов - Я сын батрака. Книга 1
Так закончил свой рассказ Иван. За столом молчали, переваривая услышанное. Рассказом Ивана отец как бы остался доволен, по крайней мере, явного недовольства не проявлял. После этого случая брат из дома никуда не уезжал, днем занимался по хозяйству, а вечером садился на коня и в степь, как он говорил. «Размять жеребца, чтобы не застаивался».
НЕСПОКОЙНОЕ ХУТОРСКОЕ ВРЕМЯ
Вот что отец рассказывал про то неспокойное время:
— Наконец революция докатилась до нашего, Богом забытого в степной глуши, хутора. В нашей жизни особо ничего не поменялось, только добавилось тревоги. Власть в хуторе менялась каждый день. То придут красные, то белые, то какие-то анархисты с черными знамёнами, то банда батьки Куринного, то похожая банда батьки Сирко, и все, кто к нам приходили, собирали сход. Сначала люди ходили, думали, что там скажут что-нибудь хорошее, а потом, как поняли, что всё это ерунда на постном масле, и ходить перестали. Тогда новая власть начала людей сгонять, но люди шли с неохотой, соберутся два десятка человек и это считалось митингом. Смех один, да и только. А вот перед тем, как прийти красным, примерно недели за две, к нашему двору на тачанке подъехал богатей Барабаш и поинтересовался, не продаёт ли Иван своего жеребца, но, получив отрицательный ответ, уехал. А примерно неделей раньше, я проходил около двора зажиточного хуторянина, Устима Коротенка, он как раз загонял во двор с десяток овечек, купленных по дешёвке. То было такое время, одни, уезжая навсегда, всё продавали, а другие, которые считали, что их революция не тронет, покупали и радовались, что досталось просто даром. Загнав их, он принялся складывать вилами только что привезённое сено. В этот самый момент ко двору Устима подъехал на тачанке богатей Барабаш, увидев, чем занимается хозяин, спросил у него: «Что Устим, всё богатеешь?» Коротенко, прекратив работу, подошёл к воротам, где стояла тачанка Барабаша, и держа вилы в руках, ответил ему: «А что не богатеть, Яков Ефимович, когда оно, богатство, само в руки идёт, только успевай, бери его». — «А ты что не слышишь, о чём люди говорят? Не сегодня, так завтра придут красные и всё твоё добро отберут». Хозяин двора, услышав эти слова, схватил вилы наперевес, угрожающе демонстрируя, как он расправится с грабителями, сказал: «Пусть только сунется, любому брюхо пропорю!» Барабаш, посмотрел на него с сожалением и сказал: «Дурак ты, Устим, ты на него с вилами, а он в тебя из нагана, вот и весь разговор». Тачанка уехала дальше, а Коротенко постоял в задумчивости с минуту и снова принялся складывать сено в стог. Прошло ни так много времени, и в хуторе стали появляться войска, то белые, то красные, а ещё всякие банды, хотя они себя называли революционными войсками. Войска белые или красные вели себя более или менее сдержано. Есть, разумеется, всем хотелось, но старались или купить у хуторян продукты или обменять, на что-нибудь. Так сказать, действовали не очень нагло, а анархисты и всякие банды хватали всё, что под руку попадётся: курей, гусей, свиней и прочую живность. Доходило до того что прямо со двора уводили коров или быков. Ну ладно животных брали, это как-то пережить можно, а вот когда молодых парней стали хватать и забирать к себе на службу, тут уж без горя не обошлось.
У тётки Мазепы хотели забрать двух взрослых сыновей, но она их не отдавала, да они и сами не хотели к ним идти, так они взяли и шашками зарубили обоих, а тела их сбросили в колодец. Да зарубали их эти изверги так, чтобы парней ещё живыми бросить в колодец, мол, пусть мучаются и издают из колодца стоны, а другие призывники пусть знают, что с ними будет тоже самое, если откажутся у них служить. Мать, убитая горем, двое суток стояла над колодцем, слышала стоны сыновей, но ничего сделать не могла, так как эти бандиты, поставили у копани часового, с наказом чтобы он никого не пускал, кроме их матери. И мать ничем не могла помочь своим сыновьям только стояла, сгорбившись над колодцем и плакала. Длилось это двое суток, пока этих бандюг не выбили из хутора красные бойцы, и тогда люди с красноармейцами вытащили из копани тела её сыновей и помогли похоронить их. А Мазепыха так сгорбленной и осталась на всю жизнь. Так что, сынок, у нас было не просто. Иван? А что Иван? Он, чтобы занять себя, чем-нибудь, с отцом начал перекрывать крышу сарая, а я им в этом помогал. Работали молча, чувствовалось напряжённая обстановка везде, не только в хуторе, но и в семье. Затем, через несколько дней, боевые действия в нашем хуторе стали затихать, похоже красные белых, а также остальных претендентов на власть, выгнали окончательно и власть взяли в свои руки. Теперь всем стало ясно, что власть будет советская, но какой она будет, никто не знал. О ней говорили всякое, а чему верить, чему нет, неизвестно. В семье на эту тему тоже были волнения. С одной стороны, рассуждал Ефим Васильевич, нам бояться нечего, мы бедняки, а бедняков красные не трогают. С другой же стороны, они могут отобрать корову и коня, а это для семьи будет плохо. Для нас корова — это жизнь. Иван слушал рассуждения отца молча, но как только зашёл разговор о коне он тут же вставил: «Коня я не отдам». Сказал, как отрезал. А дальше добавил: «Сяду на своего красавца, ускачу с ним в степь, и только нас и видели».
Далее развивать эту тему не стали, поужинали и легли спать. Среди ночи нас разбудил сильный топот копыт, чувствовалось, что во двор заскочили не один и не два всадника. Иван соскочил с полатей, схватил карабин и в сенцы. Отец с опаской подошёл к окну, я другому окну. Ночь была лунная, и всё было хорошо видно, как днём. Во дворе было несколько всадников, а сколько их было, разобрать невозможно, они постоянно двигались. Один из них поехал к окну и прокричал: «Ивана дома?» Отец взглянул на старшего сына, который стоял с карабином в сенцах, едва освещённый каганцом. Тот кивнул головой, и тогда тато ответил: «Дома, дома» — «Пусть выйдет», — прокричали со двора. Открыв дверь, брат вышел на крыльцо, было слышно, как во дворе о чём-то заговорили.
Немного погодя Иван вернулся в хату, поставил карабин в угол и молча начал быстро одеваться. Надел куртку и брюки серого цвета, на ногах у него были сапоги, на голове фуражка военного образца. Затем он стал прощаться с нами. Каждого из членов семьи обнял, а, обнимая, говорил какие-то ободряющие слова, такого с ним никогда не было, это было впервые. Когда он прощался со мной, я как бы почувствовал, что вижу его в последний раз, и мне стало обидно и горько за такую не справедливость. У меня подступил комок к горлу, и накатились слёзы. Брат это увидел и говорит: «Не бойся, братишка, мы с тобой ещё повоюем». Он был гораздо старше меня и поэтому ко мне относился как к мальчишке. Затем он закинул карабин на плечо, в левую руку взял торбы и пошёл из хаты, а мы с отцом за ним. А сестрёнка Саня, которой в то время было лет четырнадцать, сидела на полатях, прижав руки к груди, смотрела на всё невидящими глазами и тихонько всхлипывала. Во дворе толпились всадники, сколько их было, не знаю, не считал, может с десяток, а может и больше. Все они наперебой о чём-то говорили, а когда на пороге появился Иван, разговор стих. Брат, ни с кем не разговаривая, быстрым шагом, прошёл в сарай и через некоторое время вывел оттуда своего жеребца, уже осёдланного. Сел на него верхом, немного покружив по двору, как будто с ним прощаясь, подъехав к нам, остановился, сняв с головы фуражку, поклонился или нам, или хате, в которой родился и вырос, каблуками сапог тронув бока лошади, шагом выехал со двора. За ним тронулась вся кавалькада всадников. Когда они выехали со двора мы с отцом пошли их провожать за ворота. На улице конники остановились, постояли немного, затем, пришпорив лошадей, поскакали в сторону степи. Постояв на улице, мы с отцом вернулись в хату, на душе было пусто, грустно и тоскливо. Из дома Иван уезжал не первый раз и всегда возвращался, но на этот раз он не вернулся. Куда он девался, где он, что с ним случилось, нам не известно, наверное, где-то сгинул.
После слова «сгинул», отец, низко наклонив голову, молча сидел несколько минут, видно было, что этот рассказ ему дался нелегко, он до сих пор тяжело переживал потерю старшего брата, друга, наставника и кормильца. Видя его состояние, я пытался хоть как-то помочь ему, и, чтобы ободрить, сказал: «Тато, а может он и не сгинул, как вы говорите, а живёт где-нибудь, или, учитывая то, что слишком много прошло времени, жил. Может у него есть или была семья, остались дети, ведь могло быть такое, страна у нас огромная и затеряться в ней легко». Я с надеждой посмотрел на отца, как он среагирует на мои слова. Отец быстро поднял голову, в его глазах я увидел искорки радости и надежды, и уже более весело сказал: «А что, сынок, может и так, — и добавил, — ведь мертвым его из наших хуторян никто не видел, и никто нам об этом не говорил, так что вполне возможно».
От такого предположения нам обоим на душе стало легче. Вы не удивляйтесь, что моему дяде Ивану Ефимовичу я уделил столько внимания, ведь он в семье был яркой личностью и ещё потому, что он не дал моему отцу умереть от голода. Спасибо тебе, дядя Ваня Чухлиб, и царство тебе небесное, я надеюсь, что ты именно там. Кстати о бабе Мазепиной, у которой бандиты зарубили сыновей. К сожалению, я не знаю её ни имени, ни отчества, но знаю, что жила она рядом Гаркушиными, так вот, в детстве я её видел, и меня удивило то, что все ходят прямые, а она сгорблена. Я спросил у мамы: «Мамо, а почему Мазепина бабушка сгорблена?» — «Сыновей её зарубили бандиты и в копань сбросили, она простояла там двое суток сгорбленной, и после этого больше не разогнулась». В каком положении она стояла над колодцем, вот так на всю жизнь и осталась.