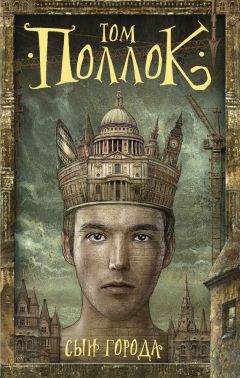В. Коваленко - Внук кавалергарда
Старуха какое-то время из-под козырька ладони слеповато всматривалась на голос, но, распознав шабра, радостно зашамкала:
— Ах, анчихрист, спужал старую, как есть спужал, иди уж — дам квашку.
Через минуту она вынесла из просевшего на один бок чулана деревянный щербатый корец, полный терпкого кваса и, подавая его Ваньке, поинтересовалась как бы ненароком:
— Что выходил, удалец, куда ж ноги штоптал шпозаранку?
Ванька осторожно сдул в сторону хлебные сухарики и жадно припал к холодному набродившемуся квасу, потом утробно отрыгнул и ответил с опышкой:
— Ходил маманьку с тятькой попроведовал, — и снова припал к ковшу.
— Как они там? — участливо поинтересовалась сердобольная старуха, не понимая глупости своего вопроса.
— Че им станется, покойно, — уже спускаясь по скрипучим сходням, пробухтел Ванька. — А и где сам-то?
— И где ему быть-то, штукнотому? Твой плетень шпозаранку штережет, — со злым напевом ответила дородная бабка, выплескивая остаток кваса. — Мошет, штопку будешь?
Ванька замотал головой: не хочу, дескать.
— Оно ж правильно: похмелье — вторая пьянка.
Дед и вправду сидел у Ванькиного придорожного плетня. Паренек, крадучись, подобрался к старику и гаркнул ему в ухо:
— Че, дед, в губернию за сеном собрался?
Старик, который до этого слеповато таращился в сторону деревенской лавки, судорожно обернулся, долго моргал, всматриваясь, наконец по-детски заулыбался:
— А-а, едрешь вошь, Ваньша, что ли? Не признал спервоначалу убей, не признал. Думал, хлюст какой из волости, щас их до хрена по деревням шастаить. Убей, не признал…
Старик заерзал по земле сухеньким задом, устраиваясь поудобней, не переставая талдычить:
— А это, значит, Ваньша-ферт. — И старик ни с того ни с сего вдруг зашелся в беззвучном смехе. Закрыл глаза, беззубый рот раззявил, только тонкий, поросший старческими, желтыми волосиками кадык нервно дергался.
— Чему закатываешься, пень трухлявый? На себя бы посмотрел, кикимора болотная, — принимая смех старика на свой счет, ранимо вспыхнул паренек. — Вырядился чучелом огородным. Пентюх и есть Пентюх, — цедил сквозь зубы Ванька, стараясь отплатить старику тем же. Но дед все ловил ртом воздух.
Почти семьдесят лет тому назад волостной священник окрестил нынешнего старика Пантелеймоном, но сердобольная бабка Пелагея, в то время девка Пелагея, с явным удовольствием перекрестила его Пентюхом. С тех пор намертво приросло: Пентюх.
Дед относился к своему новому имени философски-терпимо: «Хучь горшком прозывай, токмо в печь не ставь». В этом и был весь Пентюх.
Отвеселившись, старик стал подушечками ладони тереть влажные глаза.
— Обидчивый, как горский басурман, — пропищал он, поплотнее заворачиваясь в задрипанный тулуп. — Куды ж ты навострился, ответствуй, коли не секрет.
— На кудыкину, — буркнул разобиженный Ванька.
— Куды, куды? — не понял тугоухий старик, приставив раковиной ладонь к уху.
Ванька нагнулся к лицу деда и прохрипел по слогам:
— На ку-ды-ки-ну.
Старик оглушенно отшатнулся:
— Че орешь, блаженный, не глухой, чать, — шебурша пальцем в ухе, нервно пропищал он.
Ванька стал перематывать портянку, искоса следя за чудаковатым дедом.
Дед усердно кутался в тулуп, подсовывая его лохматые полы под квелый зад.
— Скажи мне, мил человек, — пропыхтел старик, — какого ляда мужики у лавки гуртуются? Я почитай спозаранку туточа угнездился, а они и того ранее кучкуются. Что за вопрос их мнет — ума не приложу.
— Шел бы да спытал, можа, они тебя в волостные писаря выбирают, — с отголоском прежней неприязни при советовал парень.
Старик сморщил печеным яблоком и без того хлипкое личико, сокрушенно вздохнул:
— Не в мочи я, кости хворые. — Замолчал, опять плотнее закутываясь в латаный тулуп. — По молодости на барский пруд аккурат по весне собаки загнали. Вот по читай с того моменту все хвораю. Кости корежит, силов никаких нетуть. Кажну ноченьку как на Голгофу взбираюсь.
Старик перестал жалобиться и скорбно посмотрел на ноги, обутые в старые чесанки.
— Ты меня табачком-то угостишь? — неожиданно перевел он разговор. — Токмо бабке ни гу-гу, аначе замордует. Ка-ра-к-тер — не приведи осподи, как у унтер-офицера ампираторской гвардии. Вот те хрест, у-у-ух, — с каким-то непонятным восторгом закатил дед глаза.
Скручивая заскорузлыми пальцами самокрутку, вздохнул сокрушенно:
— Хреново дело — релюция, хреново…
Ванька притопнул ногой, напяливая сапог, поинтересовался:
— Чем тебе революция-то негожа?
— А че красного-то? — взъерепенился старик. — Цигарку и ту скрутить не с чего: газетов, почитай, год нетуть. А карасин, скажи на милость, где? — И закатил глаза к небу: — Пьют реционеры его, што ля, нет карасина, язви их через седелку.
Ванька прикурил, некоторое время слезливо хлопая махнушками ресниц.
— Пойду я, дед, а то, мотрю, ты до вечера собрался турусы о карасине разводить. А мне, как есть, не с руки твою брехню слухать.
— Погодь, — дед прытко цапанул его за штанину. — Ты, милок, вот какой вопрос мне просвети.
Ванька улыбчиво разжал слабые стариковы пальцы, освобождая штанину, и присел рядом на корточки.
— Надысь баял мне шабер, Ерема Гусь: мол, стражаются в релюции воинство белое, красное, зеленое и черное — какие-то то ли ртисты, то ли антихристы. Правда али брешет шабер?
— Анархисты, — громко поправил Ванька.
— Во-во, ихних самых, — обрадовался дед. — А есть ли еще какого цвета-колера али нет?
— Есть, — давясь смехом, подтвердил Ванька.
— Какого, любопытствую? — удивленно заерзал старик.
— Серо-буро-малинового в желтый горошек, — скороговоркой выпалил Ванька и, вставая, зашелся в дребезжащем кашле, уводя хохочущие глаза от ошарашенного лица старика.
— Морочишь мне ум, варнак, пустобрех! — плюнул в сердцах старик.
— Как есть, правду баю, — заправляя за голенище сапога вылезшую штанину, давясь смехом, отпирался Ванька.
Старик глубоко задумался.
«Всю неделю мозговать будет», — глядя в тронутые думой белесые глаза Пентюха, решил Ванька.
— А что, могет такой фортель быть, — неожиданно ожил тот и тут же начал доискиваться до выгоды подобного оборота. — Ты посуди, — опять хватаясь за Ванькину штанину, рассусоливал он, — им ить насчет штандартов голову ломать не надо: взял любой бабий сарафан — и бузуй с им воевать в релюцию, язви их во все цвета.
Ванька фыркнул, выпростал штанину и, шутейно откозыряв заумному старику, навострился к лавке, где, по-видимому, собралось все мужское население деревни.
— А к какому они народу-партее относятся? — крикнул вопрошающе ему вслед дед Пентюх.
Ванька обернулся, снял картуз, почесал затылок и, скривив рот, ответил:
— В основном, гуртовщики, — с намеком на бывший приработок старика.
Пентюх онемел и, по всему видать, надолго. Ванька же уже шел в сторону лавки, будоража сапогами бархатистую желтую пыль.
II
Над толпой, крытой белесым облаком взбученной пыли да сизыми махорочными дымами, стоял базарный гул.
Ванька в конвое мата и тычков протолкался в середину толпы, где в тугом возбужденном кольце мужиков стоял, настороженно перемещаясь, невысокий, с бойкими глазами цыган.
— Ты, сучий кот, не юли, а со спокойствием и обстоятельством поведай обчеству: что, где и как, а то зачал стращать. Какие власти держат на данную моменту шапку верховодства — большаки али эсеры, али еще какие, всех бы их корове в трещину. — Неказистый, чахоточного вида мужичок воровато зыркнул по лицам, в масть ли обчеству попал или впустую языком чесанул.
Его поддержали:
— Чего уж там, верно Звонарь балакает.
— Говори, цыган, как на духу, плохо ли, хорошо, токмо не мытарь.
— Не мамзели на сносях, от истерик не упадем!
Толпа дружно, но напряженно гоготнула.
Цыган порывисто прижал руки к груди и с откровенной мольбой в глазах пошел по кругу, смотря людям в ожидающие лица:
— Да посудите, какой мне навар с того, что я вам совру? Вот если бы я говорил, что мой цыганский род никогда у вас коней не крал и красть не будет, тут дело ясное: вру. А сейчас какой мне резон обманывать вас?
— А можа, ты гитатор, и с умыслом все плетешь? Цыган ощерился, обнажив снежной белизны зубы, сквозь густые брови полыхнули весельем агатовые глаза.
— Если я кого и могу гитировать, и с умыслом, — цыган сделал паузу, — так это только ночью бабу…
Мужики опять загоготали, но теперь свободно, во всю мощь своих луженых глоток; густота смеха показывала, что шутку они приняли, цыгану верят.
— Так вот, золотые мои, что я вам выдам, — крепкий, зычный голос цыгана осадил смех, — от Питера и, почитай, до сибирской земли власть стоит твердо красная. Большевиков, значит.