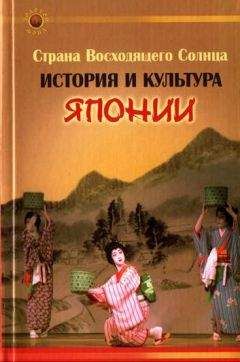Юра Окамото - ЯПОНИЯ БЕЗ ВРАНЬЯ исповедь в сорока одном сюжете
Там в городах-то война будто и не кончалась. Сын одно время тоже в Токио работал, так домой только в одиннадцать ночи приходишь, а потом вставать в шесть утра — и пошёл, и в субботу вставай, тоже на работу иди. Я вон на войне и то лучше жил. Только вот баб не было, вот и ходили все с овечками это самое. А сын там год проработал и назад вернулся, устроился здесь водителем автобуса. И правильно — тут и поле рисовое есть, вон, и овощи все свои. А на автобусе пару дней отъездил, и целый день отдыхай себе.
Эта гора тут вся моя, вот и выстроил тут эти домики для туристов. Сначала толпами приезжали, только деньги собирай. А потом уже и то им подавай, и это. Богатые, знаешь, стали. Всё за границу ездят — на что им деревня? Я вон тоже за границу ездил. В Италию. А в России не был, только видел: там дорога такая была, совсем как река вон там. На этой стороне — Япония, а на той — Россия. Но я ж туда не пошёл, вот и не знаю, как бы нам под русскими было…
12. О ПОЛЬЗЕ БЕСПРИНЦИПНОСТИ
— Эй, ты!
Не обращая внимания, я сделал ещё несколько шагов.
— Ты, на канате, тебе говорю! А ну быстро слез и всё убрал.
Я подумал, что было бы неплохо повернуться и, по крайней мере, оценить опасность, но решил, что это собьёт мне концентрацию, а свалиться в этот момент было бы как-то позорно. К тому же до дерева оставалось всего ничего, а двадцать метров, пройденных по слэклайн задом наперёд, были бы неплохим достижением.
— Чтоб тебя… — сзади послышался шелест листьев, и перед моими глазами возникла сначала метла из тонких веток бамбука, а затем лицо старика-смотрителя парка, красное то ли от ярости, то ли от китайской водки. — А ну сваливай отсюда, понял? Здесь такое только по разрешению можно. Разрешение в мэрии получишь, тогда и приходи. — Старик грозно помахал перед моим носом метлой. Мой приятель-японец, сидевший неподалёку на корточках, как мне показалось, сделал вид, что не имеет ко мне никакого отношения.
Детство в Стране Советов научило меня бояться власти в любых её проявлениях, и первый порыв был спрыгнуть с каната и свалить, как велено. Потом стало как-то жалко уже пройденных пятнадцати с чем-то метров, да и вообще — чем я провинился? Деревья, как полагается, я аккуратно обмотал войлоком, прежде чем прикрепить свой канат. Вроде бы никому не мешаю, и единственная проблема в том, что старик-смотритель ещё никогда такого не видел, а в Японии, если прецедент неизвестен, то можно быть уверенным, что делать это нельзя.
Решив всё же защитить свои права, я принялся судорожно выстраивать в голове аргументы, отчего быстро потерял равновесие и свалился. Чертыхнувшись, я встал и уже приготовился накинуться на противника с правым гневом и железной логикой, когда с земли поднялся мой приятель, расправил плечи раза в полтора шире моих и подошёл к смотрителю. Я в тот же момент обрадовался, что у меня появился брат по оружию, и внутренне сжался, ожидая японской ссоры в её осакском варианте, когда дистанция между говорящими сокращается до немыслимых десяти сантиметров, и каждый показывает свою силу, грозно раскатывая все слова с буквой «р». Но зря.
Приятель спокойно проговорил: «Здравствуйте», — и поклонился. Смотритель, сразу успокоившись, уже повежливее снова потребовал, чтобы канат был снят, на что приятель послушно сказал, что так и будет сделано. Смотритель отошёл к дороге и принялся собирать метлой палые листья, почти не глядя на моего приятеля, который немедленно вспрыгнул на канат, повернулся задом и пошёл к дальнему дереву, балансируя вздёрнутыми кверху руками. Недоумевая, я спросил:
— Так что, мы не уходим?
— Зачем? — переспросил приятель. — Старик сделал свою работу и больше к нам соваться не будет. У него самого-то к нам претензий нет. Главное, что, если его прижмёт начальство, он теперь с чистой совестью сможет сказать, что долг свой исполнил.
Некоторое время я пытался понять, что в этом раскладе меня не устраивает.
— А почему ты ему не сказал, что мы ничего плохого не делаем? Про войлок на деревьях? И про то, что парк для того и существует, чтобы люди тут приятно проводили время, никому не мешая? Почему ты не попытался его разубедить?
— Разубедить? Да ему же всё равно — он просто следует каким-то там правилам, боится, что, если что-то случится, винить будут его. У него же нет убеждения, что он прав, а мы нет. А у кого убеждения нет, того и разубедить нельзя.
Сорок-пятьдесят лет тому назад люди с убеждениями из так называемого поколения данкай, в основном студенты, собирались сотнями тысяч вокруг здания парламента, стараясь защитить свои идеалы и отстоять Японию как мирное и самостоятельное государство. Движение проиграло по всем фронтам, договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был принят и фактически превратил Японию в колонию Америки. Но именно благодаря этому договору японская экономика начала набирать обороты, снабжая американские войска во время войны во Вьетнаме, в семидесятых наступила эпоха всеобщего благоденствия, и скоро оказалось, что все те, кто предал свои идеалы, живут намного лучше, что-то производят, что-то в обществе решают, в то время как мечтатели-борцы прозябают на задворках всеобщего рая. Так, мой японский тесть, школьный учитель, всю жизнь открыто проклинал японскую политику, отказывался вставать, когда в школе поднимали японский флаг, и не пел гимн, ставший в 30 — 40-е годы символом эпохи японского милитаризма, отчего так и не продвинулся по службе ни на шаг. А отец моего японского приятеля по канатоходству, тоже учитель, когда ему предложили стать директором школы, рассудил иначе и каждое утро своими руками поднимал тот самый флаг, который в студенческое время топтал ногами на демонстрациях. Сейчас он состоит членом всевозможных комиссий в министерстве образования и меняет машину на получше каждые пару лет.
В Стране Советов всё было как-то проще. Мой дед, преподававший в университете историю Коммунистической партии Болгарии, приходил домой и учил внуков читать газеты между строк да слушать голос Америки. В этом не было ничего зазорного — или живёшь вот так, проводя чёткую границу между своими и чужими, между тем, что говоришь, и тем, что думаешь, или отправляешься в психушку или тюрьму. В Японии за убеждения не сажают — просто лишают прав на карьеру, делая тебя де-факто неудачником.
Наглядно показывая всем и каждому пользу жизни без убеждений. И именно потому, что выбор здесь вполне вольный, предательство становится намного серьёзнее того, советского, медленно проедая общество насквозь.
Приятель, ни разу не свалившись, дошёл до конца каната, спрыгнул вниз, довольно потёр руки, с ухмылкой взглянул на меня и снова запрыгнул на канат. Смотритель, не обращая на нас никакого внимания, отложил метлу и стал собирать палые листья в большой полиэтиленовый пакет. А я достал сигарету и закурил — не убеждённый.
13. СЕМЬ «МЕРСЕДЕСОВ» И СПЛОШНАЯ ЛЮБОВЬ
Сейчас-то вон на том дерьме подержанном езжу, а тогда у меня семь «Мерседесов» в гараже стояло, по одному на день недели, как у других вон галстуков, понимаешь? Лучшая строительная фирма на весь город была — двести человек, не считая временных. Ты сам-то откуда? Из России? Ну, да там ведь холод страшный, а? А женщины, говорят, красивые, только толстеют все, как им тридцать стукнет.
Мой собеседник лукаво, совсем как ребёнок, проверяющий рамки дозволенного, взглянул на меня. Ему было под шестьдесят, пресловутое поколение данкай — людей, родившихся сразу после войны и построивших современную Японию.
— Не, я президентом компании был, что мне работать — так только: заеду иногда на стройку, погляжу, как да что. А все: «Здрассьте, господин президент компании!» Потом в гольф, а вечером — к бабам. Ну, конечно, гулял, чего ж не погулять-то? Нет, жена не жаловалась — а чего жаловаться-то, деньги-то идут! В Японии говорят: хорошо, когда муж здоровый да домой нос не кажет. Не знаю, как у вас там в России, а у нас хороший отец — это которого дети и в лицо не знают, главное, чтоб деньги в семью шли. Так вот и жили. А потом, как лопнула дутая экономика, ко мне к первому из банка пришли. Так, мол, и так, говорят, плати. А чем платить-то, когда я на все деньги земли накупил? А за неё уже и десяти процентов не дают… За один день — ни дома, ни «Мерседесов», ничего.
Его поколение больше любого другого испытало на себе главные послевоенные реформы образования. Во время оккупации американцы постарались разрушить общинный строй сознания, который, как им казалось, стоял в основе японского милитаризма, заменив его западным индивидуализмом с идеями вроде духовной и материальной самореализации, но в результате общество стало более унифицированным — любая деревенская община куда более многообразна, чем модернизированное городское население, — а самореализация в японском варианте свелась просто-напросто к деньгам.