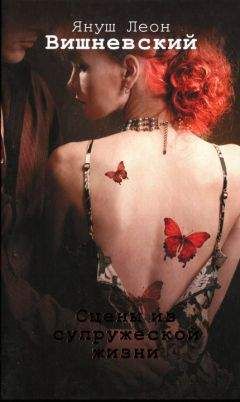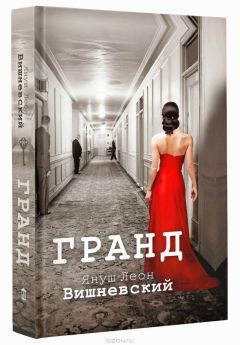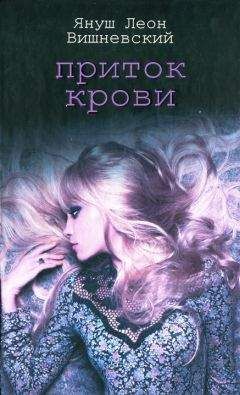Януш Вишневский - Любовь и другие диссонансы
Было еще темно, когда меня разбудил страшный шум. Я взглянул на часы в панели телевизора. Начало четвертого. Подошел к настежь открытому окну. Под моими окнами рычал, как бешеный слон, двигатель мусороуборочной машины. Вываливающиеся из контейнеров бутылки бренчали по мостовой, мусорщики, передвигавшие контейнеры, громко ругались. Минуту спустя к этой какофонии присоединились истошные звуки от припаркованных рядом автомобилей. Видимо, установленная на них сигнализация не предусматривала, что мимо будут проезжать тяжелые машины. И это в Москве! В начале четвертого утра! Я решил, что чиновник, позволивший мусороуборочным машинам работать среди ночи, страдал глухотой, бедняга.
Плотно закрыв окно, я вернулся в постель, но заснуть уже не мог и стал размышлять, что может думать по этому поводу не заезжий человек, вроде меня, а обычный москвич. Смирился ли он с этим, злится ли от бессилия или считает, что это нормально, потому что днем мусор трудно собирать из-за ужасных пробок?
Случись такое в Берлине, на ближайших же выборах партия, заправляющая в магистратуре, ни за что бы не победила. А та, что пришла бы к власти, наверняка закупила бы бесшумные мусороуборочные машины. А мусорщиков заставили бы подписать обязательство не только не ругаться, но вообще не разговаривать. В Берлине «оскорбление общественной морали путем использования ненормативной лексики» вряд ли стало бы проблемой, потому что мало кто из немцев, приходящих на выборы, понимает турецкий, албанский, хорватский или польский, а мусорщиками работают в основном выходцы из этих стран. Но законодательный запрет нарушать покой граждан с двадцати двух до семи утра распространяется на всех.
Жители Варшавы тоже сочли бы, что их покой нарушен, но не стали бы откладывать дело в долгий ящик, подписывая гневные петиции или молча вычеркивая фамилии кандидатов в избирательных бюллетенях. Это самый нетерпимый народ из всех, какие я знаю. В Варшаве поляки, открыв окна и перекрикивая шум мусороуборочных машин, матерились бы сами, бросали бы в мусорщиков всем, что подвернется под руку, начав с пустых бутылок, а потом пустив в ход яйца. И про политику поляки не забыли бы, обозвав мусорщиков приспешниками «комуняк», «евреев» и «банды эксплуататоров». А жители первых этажей повыскакивали бы на улицу, угрожая мусорщикам тюрьмой, или названивали бы в полицию. Другие жильцы мгновенно создали бы комитет по защите попранных прав преследуемых мусорщиков и тоже стали бы звонить в полицию. А она отправила бы всех жаловаться в мэрию. Туда никто бы, конечно, звонить не стал, причем не только в воскресенье, но и во вторник, потому что туда невозможно дозвониться. Тем временем мусороуборочная машина уехала бы, автомобильная сигнализация стихла, комитет самораспустился, а жители разобрались в политических и религиозных взглядах соседей и стали бы их уважать или, наоборот, ненавидеть. Вот так, скорее всего, обстояли бы дела в Варшаве.
Когда же мусороуборочная машина уехала, в номере включился кондиционер. Я протянул руку к телефону:
— Джошуа, скажи, тебе когда-нибудь хотелось в три часа ночи убить нескольких мусорщиков? — спросил я.
Несколько мгновений я слышал в трубке что-то странное, похожее на звук льющейся воды.
— Спасибо тебе, Струна. Ты, кажется, спас мой телефон. Я ночью выкинул его в унитаз и спустил воду, но он всплыл, когда ты мне позвонил. Надо будет написать об этом на фирму… Может, новый подарят… А ты, Струна, случайно не под кайфом?
— Нет!
— Тогда какого черта звонишь из Москвы и спрашиваешь про мусорщиков в час ночи?
— А ты-то сам что, под кайфом?
— Тоже нет. Всю дурь отдал Свену. Ему она сегодня нужнее, чем мне. Он пришел в котельную в таком состоянии, будто побывал на бесплатной экскурсии по чистилищу. У него в голове засела какая-то бредятина с годовщинами. Все твердил, что никто не может понять, как это больно. Якобы только ты, Струна, можешь понять. Все в Панкове знают, что одному тебе известен пин-код от космоса Свена. Не то чтобы он жаловался. Просто рассказывал. Без эмоций. Сам знаешь, Свен не умеет плакать. А потом немного нюхнул, и ему стало легче. У него сейчас тоска. Но это так, к слову. А что там у тебя с мусорщиками? Я никогда не убил бы мусорщика. Сам четыре месяца работал мусорщиком, но меня уволили, потому что я отказался подбирать раздавленных кошек. Если бы мне пришлось писать автобиографию, я начал бы с того, как был мусорщиком. Так что там у тебя случилось? Какой-то мусорщик трахнул твою русскую?
— Да нет, Джошуа, мне просто хотелось с тобой поболтать. У меня бессонница. А Свен приходит в котельную с книгой?
— Вот именно что нет!
— Джошуа, ты позаботишься о нем?
— Имеешь в виду, что я должен скупить все бритвы и лезвия в Берлине?
— Не до такой степени. Тем более что у Свена все это есть. Просто почаще говори с ним. Лучше всего о науке. И не перекорми его химией. Что ты ему дал сегодня?
— Кислоту. Сегодня ему была нужна кислота.
— Джошуа, прошу тебя, не давай ему ЛСД! Ему покажется, что мозг у него отделился от тела, и он сотворит что-то нехорошее. Не надо, Джошуа! Он ценит только свой мозг…
— Не нуди, Струна. У меня не было ничего послабее. Не надо истерик. Я позабочусь о нем. Ты когда вернешься?
— Не знаю. Я предпочел бы никогда не возвращаться в Панков.
— Ты не можешь так со мной поступить! Сегодня Шмидтова столкнулась со мной в магазинчике и расспрашивала о тебе. Я обещал сообщить дату твоего возвращения, если она со мной переспит. А она ответила, что спит с лесбиянками, а не с педиками, но что если ты вернешься, она подумает над моим предложением. Ты должен вернуться, Струна. Слышишь? У меня такое ощущение, что если я хоть раз трахну Шмидтову, она снова станет натуралкой.
— Я дам тебе знать! — ответил я, громко рассмеявшись в трубку. — Обязательно…
Известие о кризисе у Свена меня встревожило. В конце марта день рождения его дочери. И годовщина свадьбы. После катастрофы он возненавидел март. К нему возвращались его демоны, и он впадал в «депрессивную горячку», как сам ее называл. Он рассказал об этом только мне. Меня удивило, что теперь в курсе и Джошуа, потому что Свен открывал душу мне одному. Я не могу назвать наши отношения дружескими, потому что дружба подразумевает объективность, а я им всегда восхищался. И сознавал, что мне до него далеко, потому что после наших бесед на угольной куче в Панкове чувствовал себя полным тупицей.
Но Джошуа ошибается, считая, что Свен не умеет плакать. Часто по ночам Свен стучался ко мне и, присев на подоконник, спрашивал:
— Можно, я расскажу тебе про мою жену?