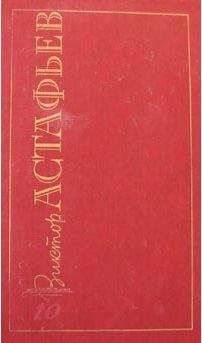Виктор Астафьев - Царь-рыба
Нет и никогда уж не будет покоя реке. Сам не знающий покоя, человек с осатанелым упорством стремится подчинить, заарканить природу. Да природу-то не переиграть. Водорослей, которые в народе зовутся точно — водяной чумой, развелось полторы тысячи видов, и они захватывают по всему миру водоемы, особенно смело и охотно свежие, ничем не заселенные. В одном только Киевском водохранилище — факт широкоизвестный — за лето накапливается и жиреет пятнадцать миллионов тонн страшного водяного хлама. Сколько скопилось его в Красноярском водохранилище — никто не считал.
…Обожженные ледяной водицей, выползли мы на солнце, на гладкий песочек, намытый меж бычков, и собрались вздремнуть под шум порога, как увидели спускающегося по яру блекло, но все же не без довольности улыбающегося Павла Егоровича.
— Вот, — разворачивая тряпицу, сказал бывший бакенщик, — соседу в сетчонки три штуки попались. Одну кой-как выцыганил.
Мы быстренько сварили из стерлядки уху.
— Вы ешьте, ешьте! — отсовывал от себя рыбу Павел Егорович, — мы ее тут перевида-али! — похвалился он и ложкой показал на другую сторону Енисея, на нижнюю гряду порога. — Там есть две ямы, и на зиму в них «залегала» красная рыба. Вот прямо как поленья, друг на дружку, — пояснил он. — Сторожа ставили с ружьем, чтобы никто не пакостил на ямах. Каждой семье перед ледоставом разрешалось сделать два замета неводом. Два — и шабаш! Но брали рыбы на всю зиму. Сами хозяйничали на реке, сами ее и блюли, жадюг не жаловали.
Нет теперь красной рыбы на тех ямах ни летом, ни осенью. Сошла она с порога, укатилась в низовья Енисея и на Ангару, плесень согнала ее, капризную, к грязи непривычную. Лишь реденькие стерлядки добредают до порога по древнему зову природы. На туере «Енисей» в колпите каша, казенный борщ, жареная ставрида, хек вместо стерлядки.
— И в наш поселковый магазин бычков в томате привезли, — вздохнул Павел Егорович, — и эту, как ее? Вот уж при жэнщыне и сказать неловко, бледугу какую-то. На Анисей — бледугу! Чем же мы дальше жить-то будем?
«И этот про „дальше“! Все-все печемся о будущем! Головой! А руками чего делаем?..»
Замолк Павел Егорович, загорюнился и я, не стал ему рассказывать про его родину, Урал, которому прежде всех и больше всех досталось от человека, про ржавые и мертвые озера, пруды, реки, про загубленную красавицу Чусовую, про Камское водохранилище, где более уже четверти века мучается земля, пробуя укрепиться возле воды, и никак не может сделаться берегом, сыплется, сыплется, сыплется.
Кто будет спорить против нужности, против пользы для каждого из нас миллионов, миллиардов киловатт? Никто, конечно! Но когда же мы научимся не только брать, брать — миллионы, тонны, кубометры, киловатты, — но и отдавать, когда мы научимся обихаживать свой дом, как добрые хозяева?..
Ревел порог. Шумел порог, как сотню и тысячу лет назад, но не плескалась, не вилась в его струях, не шлепалась на волнах, сверкая лезвием спины, стерлядь — живое украшение реки.
…И отправился я за тысячу верст от Казачинского порога, на Нижнюю Тунгуску, где, по слухам, нет еще враждебных природе мет человека. Лишь бросится в глаза, что на много сотен километров берега Енисея купаются в розовом разливе медовой травы — кипрея, средь которого торчат карандашиками небогатырского сложения северные леса, вьется кислица, кустится малина, таволожник, волчья ягода, веретье и жердинник — по всем видам палеж, но для пожаров слишком уж широки эти убитые пространства, непосильно продраться огню средь запаренных болот, обсеченных распадками речек, хлесткими потоками и надзорно нависшими сверху осередышами — хребтами с вечным снегом на горбу, оградившими беззащитную тайгу.
Есть, оказывается, кое-что посильнее огня — лесная тля, древоточцы, разные червяки, гусеницы, и среди них самая ненасытная, неостановимо упорная — шелкопряд. Это он сделал опустошительное нашествие на сибирские леса сначала в Алтайском крае, затем перешел, точнее, хлынул широкой, мутной рекою к Саянам, оставляя за собою голую, обескровленную землю, — поезда буксовали, когда гнойно прорвавшийся нарыв лесной заразы плыл через железнодорожную сибирскую магистраль. Усталый, понесший утраты в пути паразит затаился в Саянах по распадкам малых речек, незаметно развешивал паутинные мешочки на побегах черемух, смородины, на всем, что было помягче, послаще и давалось ослабевшим от безработицы пилкам челюстей. В мешочках копошились, свивались, слепо тыкались друг в дружку, перетирая свежий побег, зелененькие, с виду безобидные червячки. Подросши, они в клочья пластали паутинное гнездо и уже самостоятельно передвигались по стволу, бойко подтягивая к голове зад, и там, где неуклюже, инвалидно вроде бы проходил, извиваясь, гад, деревце делалось немым, обугленным.
Окрепнув, паразит уже открыто двинулся на леса, сады, дачи и палисадники. Я своими глазами видел, как сын старого друга нашей семьи, лесничего Петра Путинцева, Петр Петрович сидел в нарядном, что у маршала, картузе лесничего в ограде родимого кордона, на Караулке, под мертвыми черёмухами, а вниз и вверх по речке, опаляя черным пламенем низину и косогоры, поедая осинники, вербу, ивняки, пробуя уже и хвойный лес, от поколения к поколению набирающий силу, двигался молчаливый враг, нарывами повисая на беспомощно притихшем лесе, в котором бесились, хохотали самцы-кукуши, крякали ронжи да хлопотливо трещали веселые сороки — только эти птицы у нас могут есть мохнатую гусеницу, и кому горе, а им пир!
Не думал, не гадал я, что враг этот доберется аж до Осиновского порога и двинется по Подкаменной и Нижней Тунгуске, все-таки гусеница начиналась когда-то на юге, но там у нее есть противники, с нею борется сама природа. Здесь же, в северных краях, в раздетых, ошкуренных лесах лишь кипрей полыхает в середине лета — спутник бедствующих российских земель, прославленный в народе под названием иван-чай. Кипрей создан природой укрывать земную скорбь, утешать глаз. В гущине своей храня теплую прель, он яркими, медовыми цветами манит пчел, шмелей, мелкую живность, которая на лапах, в клюве иль к брюшку прилипшим занесет сюда семечко, обронит его в живительное тепло и влагу, накопленные кипреем, и оно воспрянет там цветком, кустиком, осинкой, елочкой, потеснит, а после и задавит, уморит кипрей, и погаснет растение, отдавши себя другой жизни.
Мудрость природы! Как долго она продлится?
Туруханск ликом смахивает на природу, его окружающую. Изломанный на краюшки крутым яром, оврагами и речками, он живет настороженной жизнью, найдут ли геологи чего в здешних недрах? Найдут — процветать городу и развиваться. Подкузьмят недра — хиреть ему дальше. Но чего-нибудь да найдут, не могут не найти — район на восемьсот длинных верст распростерся по Енисею, поперек же, в глубь тайги сколь его, району? «Мерили черт да Тарас, но веревка в здешних болотах оборвалась…» «С самолета кака мера? — спорят таежники. — С самолета верста короче».