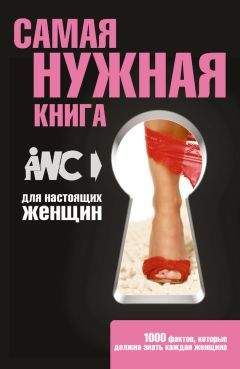Сол Беллоу - Герцог
Притом что он часами бывал на воздухе, он боялся, что лицо у него еще бледное. Может, оттого, что в зеркало на двери в ванную по утрам вместе с ним смотрелась густая зелень листвы. Да нет, он действительно неважно выглядел. Наверняка возбуждение отнимает много сил, думалось ему. И конечно, не давал забыть о немочи стойкий больничный запах повязки, спеленавшей грудь. На второй или третий день он не остался спать наверху. Ему не хотелось выживать из дому сов и обрекать на смерть совят в старой люстре на трех бронзовых цепях. Хватит тех скелетиков в сортирном бачке. Он перешел вниз, прихватив несколько полезных вещей — теплый бушлат, капюшон от дождя, ботинки, выписанные из Сент-Пола от Гоуки, чудесные ботинки — мягкие, красивые, защитные от змей, он уже забыл, что у него есть такие. В кладовке его ожидали еще интересные находки: фотографии «счастливых дней», коробки с одеждой, письма Маделин, пачки аннулированных чеков, каллиграфически выписанные извещения о браке и кулинарная книга Фебы Герсбах. На фотографиях был он один — их Маделин оставила, а свои забрала. Интересно у нее получается. Среди брошенных платьев был весь ее дорогой гардероб роженицы. Чеки выписывались на большие суммы, причем многие были оплачены наличными. Она что, копила потихоньку? Он вполне это допускал. Над извещениями он расхохотался: Господин и госпожа Понтриттер отдают свою дочь замуж за господина Мозеса Е. Герцога, д-ра философии.
В одном из чуланов под заскорузлой малярной тряпкой он обнаружил с десяток русских книг. Шестов, Розанов. Розанов ему нравился; к счастью, он был по-английски. Он прочел несколько страниц из «Уединенного». Потом оглядел малярное хозяйство: старые кисти, разбавители, иссохшие, заляпанные ведерки. Отыскалось несколько банок с эмалью — а что, подумал Герцог, если покрасить пианино? И отправить Джуни в Чикаго. У девочки большие способности. А Маделин — ей, суке, придется взять пианино, раз доставили и оплачено. Не станет же отсылать обратно. Зеленая эмаль показалась ему самой подходящей, и он, не откладывая, отыскал годную кисть, прошел в зал и набросился на работу. Дорогой Розанов! Он сосредоточенно красил крышку пианино; эмаль была нежно-зеленая, радовала глаз, как летние яблоки. Громовая истина, какую Вы высказываете и какой не говорил ни один из пророков, это — что частная жизнь выше всего. Это — общее религии. Правда выше солнца. Душа есть страсть. «Аз есмь огнь поедающий». Я задыхаюсь в мысли. И как мне приятно жить в таком задыхании. Добрых от злых ни по чему так нельзя различить, как по выслушиванию рассказов чужого человека о себе. Не надейтесь на дружбу с человеком, который скучает, вас выслушивая. Бог всего меня позолотил. Чувствую это… Боже, до чего чувствую. Очень трогательный человек, хотя временами невозможно грубый, и еще эти его дикие предрассудки. Эмаль ложилась хорошо, но надо будет, наверно, пройти по второму разу, а хватит ли краски? Отложив кисть, пока подсохнет крышка, он задумался над тем, как вывезти отсюда инструмент. Громадный дальнерейсовый фургон вряд ли подымется на его холм. Надо будет подрядить в поселке Таттла с его пикапчиком. На все уйдет что-нибудь около сотни долларов, но для ребенка он ни перед чем не остановится, и особых проблем с деньгами у него нет. Уилл предложил ему взять на лето сколько потребуется. Рост исторического сознания любопытным образом привел к тому, что осознание стали полагать необходимым условием выживания. Люди должны осознать свое положение. И если неосознанную жизнь не стоит и проживать, то осознанная также невыносима. «Дай синтез или погибни/» Такой, похоже, теперь закон? Но когда видишь, какие странные понятия, иллюзии, проекции исходят из человеческого разума, то начинаешь снова верить в Провидение. Жить с такой чушью… Во всяком случае, интеллектуал всегда сепаратист. Так какого же рода будет тот синтез, до которого может досягнуть сепаратист? К счастью, у меня никогда не было таких средств, чтобы оторваться от жизни большинства. Чему я только рад. Я намерен, насколько меня хватит, участвовать в жизни с другими людьми — и при этом не загубить свои оставшиеся годы. Герцог чувствовал сильное, до головокружения, желание начать.
Нужно было взять воду из цистерны; насос весь проржавел, он залил его водой, поработал рукояткой и скоро устал. Цистерна была полна. Он вагой поднял железную крышку и опустил ведро. Оно зачерпнуло с приятным звуком; мягче этой тут нет воды, только надо прокипятить. На дне обязательно лежит бурундучок или крыса, хотя вытягиваешь вполне чистую, изумрудную воду.
Он пошел посидеть под деревьями. Под своими деревьями. Его забавляла мысль, что он отдыхает в своей американской недвижимости, в сельском уединении, стоившем ему двадцать тысяч долларов. Владельцем он себя как-то не ощущал. Что касается двадцати тысяч, то красная цена этому месту — три-четыре. Никому не нужны эти старые дома на беркширских задворках, тут вам не модный уголок с музыкальными фестивалями и современными танцами, с псовой охотой и прочими утехами снобов. Даже на лыжах не очень походишь по этим склонам. И никто сюда не ехал. Единственные его соседи — кроткое спятившее старичье, Джуксы и Калликаки[252], безостановочно мотавшиеся в качалках на веранде, смотревшие телевизор, — девятнадцатый век тихо вымирал в этой Богом забытой зеленой дыре. Зато это — свое, свой очаг; свои березы, катальпы, конский каштан. Свои подопрелые мечты о покое. Родовое гнездо для детей; глухомань Массачусетса — для Марко, маленькое пианино, внимательным отцом выкрашенное в ласковую зелень, — для Джун. Тут, как и во многом другом, он скорее всего напортачит. Но, во всяком случае, он не умрет здесь, чего боялись прежде. В прошлые годы, подстригая траву, он, случалось, опирался, перегретый, на косилку и задумывался: Вдруг я умру в одночасье, от сердечного приступа? Где меня похоронят? Может, самому подобрать себе место? Под елью? Очень близко к дому. Сейчас ему пришло в голову, что Маделин безусловно сожгла бы его. Осознание невыносимо, а без него не обойтись. В семнадцатом веке ярый поиск абсолютной истины прекратился, отчего человечество получило возможность переделывать мир. И с помощью мысли кое-что было достигнуто. Умственное стало одновременно реальным. Прекращение гонки за абсолютом сделало жизнь приятной. Лишь профессионалы, то есть немногочисленные интеллектуалы-фанатики, все еще рвались к этим абсолютам. Однако наши революционные потрясения, включая ядерный террор, возвращают нас к метафизике. Практическая деятельность достигла высшей точки, и теперь все может прекратиться одним разом — цивилизация, история, смысл, природа. Все! Теперь к вопросу о господине Кьеркегоре…
Доктору Валдемару Зозо. Сэр! В бытность Вашу психиатром военно-морских сил я показывался Вам году в 42-м в Норфолке, штат Виргиния, и Вы поражались моей незрелости. Я знал это за собой, однако подтверждение специалиста заставило меня страдать. Для страдания мне хватало зрелости. За мной был многовековой опыт. Тогда я очень серьезно отнесся к этому. Кстати, меня демобилизовали по астме, не за инфантильность. Я совершенно влюбился в океан. О, великий сетчатый океан с гористым дном! Из-за тумана с моря у меня пропал голос, для офицера связи это конец. А тогда, у Вас в кабинетике, я сидел голый, бледный, слушал, как муштруют глотающих пыль моряков, слышал, какую Вы мне даете характеристику, с трудом выносил южный зной, однако в отчаянии ломать руки счел неподходящим. И поэтому держал их на коленях.
Сначала от ненависти к Вам, потом из неподдельного интереса я стал следить за Вашими публикациями. Недавно меня совершенно очаровала Ваша статья «Экзистенциальная тревога в бессознательном». Это действительно классная работа. Надеюсь, Вас не коробит, что я так запросто говорю с Вами. Я в самом деле ощущаю необычайную раскованность. «На нехоженых дорогах», как чудесно формулирует Уолт Уитмен. «Беглец от жизни, выставляющей себя напоказ…» Ах, это чума: выставляющая себя напоказ жизнь — это настоящая чума! Для всякого неразумного чада Адамова приходит такое время, когда он захочет выставиться перед остальными, и он выставляет свои бзики, корчи и тики, все великолепие своего обожаемого безобразия — скалящиеся зубы, острый нос, безумный выверт мозгов, и в приливе нарциссизма, который он понимает как благодеяние всем нам, он говорит остальным: «Я пришел свидетельствовать. Я пришел служить вам образцом». Одураченный самозванец!.. Так вот: беглец, как говорит Уитмен, от жизни, выставляющей себя напоказ, «внимающий ароматным речам…». Дальше еще один интересный факт. Весной я узнал Вас в Музее первобытного искусства на 54-й улице. У меня прямо ноги отнялись! Попросил Рамону присесть со мной. Я сказал даме, с которой был: «Как бы это не доктор Валдемар Зозо». Оказалось, она Вас тоже знает, и ввела меня в курс: Вы довольно богаты, собираете африканские древности. Ваша дочь исполняет народные песни и прочее. Я осознал, как остро ненавижу Вас. А ведь думал, что давно простил. Интересно, правда? Когда я увидел Вас — в белой сорочке с пластроном, при смокинге, мокрые губы под эдвардианскими усами, косица, приученная накрывать плешь, бесплодное брюшко, обезьяньи ягодицы (элементарно старые!), — я радостно осознал, что ненавижу Вас. Словно и не было этих двадцати двух лет!