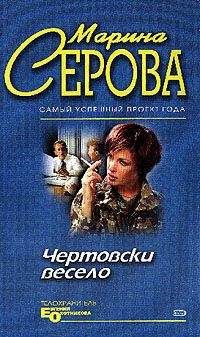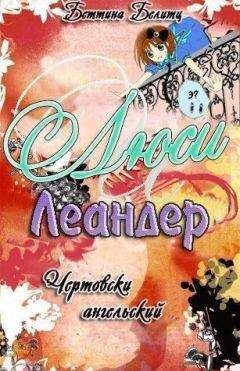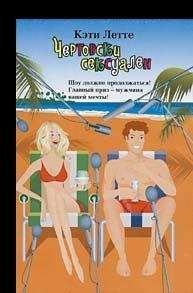Инна Александрова - Свинг
При Советской власти был создан колхозный строй. И он, этот строй, целеустремленно вел людей к безответственности, к той безответственности, в которой сегодня следует искать беспредел. Колхозы были созданы не для процветания крестьян, а для еще большего их закабаления. И люди отучились работать. Сосед-дачник рассказывает: рядом с его домом была ферма крупного скота. Теперь ее нет. Все быльем поросло. Почему? Да потому что граждане, что работали на ферме, теперь пьют горькую. Зачем думать, переживать? Зачем вообще трудиться, если, где-то подшабашив, можно с утра залить глаза? Была банька общественная — так и ту спалили. Ничего: живут…
Сегодня сталкиваемся с классом, которому и названия-то нет. Это — не рабочие, не крестьяне. Это уже какие-то промежуточные слои, которые не могут сорганизоваться. И все покрывается водкой. Таких «зависших», конечно, достаточно по всему миру, но в Европе их проблемы пытаются как-то решать через благотворительность и полицейский надзор. Что делать на глобальном уровне у нас — никто не знает.
К сожалению, не оказалась подготовленной к судьбоносному моменту и интеллигенция. И опять же неудивительно. Все, с чем пришлось столкнуться в сталинскую и послесталинскую эпоху, было патологией. А опыт противостояния патологии не есть положительный опыт. Патология продолжается и может для России оказаться роковой.
Тот хрупкий слой мыслящих и бескорыстно работающих, который возник в начале XX века, развеялся, не успев окрепнуть. Представители этого слоя умерли, погибли, уехали. Оставшиеся в перестройку, когда дали свободу, либо оказались без работы и пошли «челночить», превратившись Бог знает в кого, либо бросились писать про дерьмо и лизать начальственные задницы.
Природа любой власти такова, что она, власть, ничего не будет делать, кроме того, что ей нравится, выгодно, удобно. Наша власть, к сожалению, в своих решениях пользуется старыми методами и принимает старые советские решения, едет по наезженной колее вместо того, чтобы строить новую. Остались старые инстинкты. Пытаемся строить капитализм методами социализма. Советское мышление владеет умами до сих пор. А потому никогда не вырвемся из той ямы, в которую попали, если власть предержащие не поймут: только при восстановлении социальной справедливости можно сберечь народ. Иначе — деградация, которая уже идет. Все, в общем, как писал поэт:
Не спрашивай с Бога: Его в этом мире нет.
Небесное царство, небесный нездешний свет!
Лишь отблески этого света даны земле.
Поэтому мир лежит, в основном, во зле.
…Любовь настигла довольно рано: зимой сорок четвертого — сорок пятого. Мне было тринадцать лет. Влюбилась в светловолосого, голубо-стальноглазого Сережу Семенова, вместе с которым под его гитару пели перед ранеными в госпитале:
Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.
А иногда и лирическое:
Ночь светла, над рекой
Тихо светит луна,
И блестит серебром
Голубая волна…
Сережа был местный, кокчетавский. Учились в одном классе, и учил нас его отец — литератор и его сестра — географичка. Мать Сергея была директором начальной школы. У них была большая семья.
Я тоже нравилась Сергею, и каждый свободный часок старались провести вместе.
Прожив много лет на свете, пришла к выводу: интимные отношения между женщиной и мужчиной делятся на Любовь, секс и проституцию.
Любовь — сродство душ, нечто духовное и возвышенное, когда друг за друга готов умереть, претерпеть страдания, муки. Любовь — то, что преображает жизнь, делает ее необыкновенной, когда близость физиологическая где-то там, далеко, а главное — видеть, любоваться, радоваться, чувствовать полное духовное слияние. Любовь воспета тысячами поэтов, и мне нечего к этому прибавить.
А вот секс — то, что происходит у кошек, собак и прочих четвероногих. Это полная физиология, и люди, занимающиеся сексом, ничем не отличаются от животных. Заниматься сексом можно, а вот заниматься любовью, как иногда говорят, нельзя. Это оскорбительно для Любви.
У нас с Сережей была Любовь, Любовь, настигшая нас в достаточно раннем возрасте. А события развивались так. В седьмом классе, когда две кокчетавские школы разделили на мужскую и женскую, Сергей сильно заболел и пропустил полгода. Ему пришлось отстать от меня. Когда я заканчивала десятый класс, он только завершал девятый. Ехать учиться вместе не могли, но решили, что он приедет в тот же город годом позже и поступит в медицинский институт. Стать врачом его уговорила моя мама. Однако злой рок не дремал: его мать заставила через год ехать не в Казань, а в Свердловск. Боялась, мы сразу поженимся, а я была дочерью сосланных и к тому же по паспорту еврейкой. Мы увиделись лишь через много лет, когда был он уже второй раз женат, имел троих детей, а счастья не было. Мы увиделись, когда я приехала на могилу отца. Он плакал, осуждал себя, но ничего изменить было невозможно: оба были несвободны. Через год, в шестьдесят шестом, он умер — утонул в озере во время охоты при странных обстоятельствах…
Когда получала паспорт в ноябре сорок седьмого, мне не поставили штамп «Разрешается жить только в городе Кокчетав». Наверно, «подсуетился» майор Виноградов, о котором уже говорила. Экзамены весной сорок девятого сдала на «отлично» и, как ни пытались зажать, все-таки наградили золотой медалью, которая тогда давала право поступать без экзаменов. Послала документы в Казанский университет на филологический факультет. Папа, хотя и робко, пытался уговорить стать врачом, а мама почему-то молчала. Много позже спросила ее, почему. Она ответила: «Настоящее врачевание — тяжкий и горький труд». Уж она-то знала это как никто другой. Потом, конечно, я жалела: медицина всю жизнь была предметом моего интереса.
Пятидесятые и все остальные…
Первый курс в университете достается тяжело: никогда не жила одна среди чужих. Мне не было и восемнадцати. На первой квартире обкрадывает хозяйский сынок: съедает всю еду, которую покупаю. Лишних денег нет, и тело покрывается чириями, глаза — ячменями. На второй квартире хозяйка комнаты Мария приводит пьяного хахаля, и полную ночь горит свет: они выпивают, разговаривают. Иногда парни-юристы, что снимают комнату у соседки, выкидывают хахаля на мороз. Только на третьем курсе дают место в общежитии. Становлюсь полноправным членом шестикоечной комнаты.
Кроме каждодневных восьми часов лекций, с трех до одиннадцати вечера сижу в читалке. Никто так не сидит. Но мне некуда деться, а потом — интересно заниматься: оценки должны быть только отличными. Ребята и девчата подтрунивают, но я плюю. Только одна девочка понимает — Зельфа Альмухамедова. Именно она однажды приводит меня к себе домой, и я впервые за многие месяцы отогреваюсь душой.
Мама ее, невысокая, очень худенькая, с каким-то светящимся и очень бледным лицом, производит впечатление цветка, который вот-вот сломается. Назия Хатыповна встречает приветливо, предлагает пройти, раздеться. В небольшой комнате, немалое место в которой занимает печь с топкой чуть ли не у самой входной двери, стоит несколько предметов мебели — только самых необходимых. Сидя на корточках, Назия Хатыповна ловко орудует в печке кочергой и ухватом. Уже через много лет, когда становимся совсем немолодыми, узнаю от Зельфы, что Назия была дочерью потомственного муллы, муллы в тринадцатом колене, человека очень просвещенного, ратовавшего за дружбу татар с русскими, за сближение светской и религиозной властей. В советские годы его, муллу, конечно же, арестовали и сослали, но недалеко, не в Магадан, а поближе, и в этой ссылке он подружился с русским священником. Значит, вера не мешает приятельству, когда все по-людски.
Закончив татарскую школу, Назия уехала к родственникам в Казань — большой город манил молодых: хотелось учиться. И она окончила техникум, связанный с биологией и сельским хозяйством. Здесь и встретилась с Мазитом, отцом Зельфы, учителем математики. Жили страшно бедно, впроголодь, особенно когда появились девочки: Ильфа и Зельфа. Во время войны сырой полуподвал, в котором была контора Назии, совсем ее доконал: заболела туберкулезом и пиелонефритом. Вся изболевшаяся, умерла сорока восьми лет.
Тогда, в первое посещение, была представлена и отцу Зельфы — Мазиту Ифатовичу, который полулежал на широкой супружеской кровати под красным стеганым одеялом и тихонько что-то бормотал. Как потом оказалось, решал математические задачи. Мазит Ифатович раза в два потяжелей супруги, но тоже очень приветливый. Он сразу обратился ко мне с вопросом: «А ну, скажи, какой основной закон социализма?» Я теряюсь, а он быстро и коротко говорит: «Очередь». Потом прибавляет: «Да, да, Советская власть дала мне, татарину, все, но я очень не хочу дожить до коммунизма». Хитро улыбнувшись и подмигнув, прикладывает палец к губам.