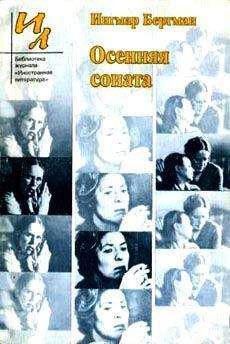Шарль Левински - Геррон
Забор с распахнутыми воротами, которые за нами тщательно заперли на засов.
Дорога.
Огни города.
— Это Ирун, — сказал один из мужчин. — Вот ваши бумаги для пересечения границы. Господин министр пропаганды велел вам передать: чтобы вы никогда больше и носу не показывали в Германии.
Мы зашагали в сторону огней. Протянули на пограничном посту наши документы. Не взглянув на документы, они махнули нам, чтоб мы проходили.
Потом мы перешли по мосту в Испанию.
Но все было не так.
Было так.
Мы ждали в „Игристом“. Часы с шатающимся кораблем тикали и кликали. Минуло двенадцать. Минул час. Минуло два.
Рюман не пришел.
В половине третьего задняя дверь распахнулась. Мы услышали шаги. В кухне упала на пол сковородка. Но не оттого, что ее невзначай столкнули с плиты. Кто-то швырнул ею об пол, чтобы выместить злость.
Отто Буршатц.
Он вошел, бледный как полотно, и сказал только:
— Он передумал.
Вальбург совсем ослаб из-за болезни и не смог вынести огорчения. Потому-то и расплакался.
„Я не могу рисковать, — передал Отто слова Рюмана. — Я могу огрести большие неприятности“. И ушел спать. Ему предстояло рано вставать, чтобы ехать обратно в Берлин.
— Так уж вышло, — сказал Отто.
— И это все? — спросил Вальбург. — Больше он ничего не сказал?
— Сказал. Но вам будет неприятно это услышать.
Если нам нужны деньги, сказал еще Рюман, надо только дать ему знать. Этим он нас охотно выручит.
Деньгами.
Я не упрекал его. Конечно, укоров у меня было много. Как-никак, он был большим другом Вальбурга. Но я знал и другое: смелость не востребуешь, как деньги со счета в банке. Тем более от свежеиспеченного государственного артиста.
Незадолго до вступления нацистских войск в Голландию в одном из ревю Нельсона мы пели песенку про трех обезьян. Ничего не вижу, Ничего не слышу, Ничего никому не скажу. С завершающим куплетом: „И тут нам подсказали безобразники-мальчишки: да то не обезьяны. То немчишки“. Всегда был смех в зале.
Немчишка — обидное слово для немца. Но Рюману подошло бы. Еще можно было бы понять, что он не хочет за нас заступиться. Но чтобы даже не зайти…
Какой же все-таки жалкий маленький кролик.
Он не пришел, и не было никакого поезда в Испанию. Мы уже не могли выехать из Голландии. Застряли прочно. За решеткой из параграфов, в которой рано или поздно всякий попадается на крючок. Больше никаких поездок без официального разрешения. Даже за пределы Амстердама выехать нельзя. А я-то уже видел себя в Голливуде. Со звездой на двери уборной. Которую там вешают звездам. Ну что ж, свою звезду я все же получил. Не на двери уборной. А гораздо, гораздо лучше. Я могу закрепить ее на груди. Ярко-желтого цвета. Чтобы каждый знал, что я нечто особенное. Больше чем звезда. Еврей.
В принципе, здесь могут делать исключение для театральных спектаклей. На сцене Схувбурга я мог появляться без звезды. „При условии, что изображаемый персонаж не обязан носить звезду по распоряжению от 3 мая 1942 года“. Они предусмотрели все.
Папа больше почти не выходил из дома, настолько он ненавидел этот знак. Он всегда презирал жидков и теперь не хотел публично выставлять себя одним из них. Мама — что типично для нее — больше жаловалась на то, что звезду полагалось пришивать суровыми нитками.
— Это же портит ткань, — говорила она.
Не знаю, кто придумал шутку, которая тогда ходила. „В слове JOOD на звезде между буквами „J“ и „D“ стоят вовсе не буквы О, а два нуля. Как на двери клозета. Чтобы каждый знал, что мы сидим в дерьме“.
Один сидит глубоко, другой не очень. Я снова оказался на льготном положении. Как актер Схувбурга, я стал сотрудником Еврейского совета и в этом качестве был освобожден от депортации. Впредь до дальнейших распоряжений.
Мы и в самом деле все еще играли в театре. Разучивали безобидные комедии. Как будто не было ничего более важного. Как будто нам давно уже не были отведены роли совсем в другой пьесе, которая определенно не была комедией.
Теперь представления начинались ранним вечером, поскольку после 20 часов действовал комендантский час для жидков. Занавес должен был опускаться своевременно. Многим из наших зрителей еще предстоял длинный пеший марш. Трамваем: Евреям запрещено. На велосипеде: Евреям запрещено. Хофмейрстраат, куда нам пришлось перебраться, была ближе. Когда дело шло к концу, они все больше евреев сгоняли на Трансваальбуурт. Хотели, чтоб мы все были в одной компактной куче.
У нас в театре всегда был аншлаг. Хотя каждый, кто шел к нам, лишался в этот день возможности купить еды. Для покупок евреям отводилось время с трех до пяти часов.
Иногда, когда спектакль еще продолжался, в фойе праздновалась свадьба. Заключать браки в ратуше евреям больше не разрешалось. Об этом было объявлено 1 апреля. Особенно оригинальная шутка.
Наш последний спектакль назывался „Колыбельная“. Я играл там озлобленного бездетного мужчину, который находит у своей двери подкинутого грудного младенца. И снова становится счастлив, потому что теперь у него есть ребенок. Очень подходящая роль для меня. Мой небесный драматург, должно быть, немчишка.
Приемная Эпштейна была пуста. Ни одного просителя. И ни одного привратника и припорожника, которые там обычно важничали. Как будто все сбежали. Так внезапно, что даже не прихватили свои вещи. Бумаги, которые собирались положить перед Эпштейном. Лагерное удостоверение личности. На столике раскрытая жестяная коробка с тремя сигаретами. Запретная драгоценность, брошенная просто так.
Без привычного множества людей помещение показалось мне меньше размером. Ужалось. В Иерусалимском храме, как рассказывал Лжерабби, стены раздвигались по количеству верующих.
Дверь в кабинет Эпштейна стояла чуть приоткрытой. Я лишь на минутку замешкался в приемной, как уже послышалось:
— Это вы, Геррон? Мы вас ждем.
„Мы“? В его голосе слышался испуг.
Эпштейн за своим чрезмерно большим письменным столом. Позади него, прислонившись к стене, Рам. Прислонившись к стене. Карл Рам в кабинете еврейского старосты. То, чего быть не могло. И Эпштейн не только не стоял перед ним по стойке „смирно“, а оставался сидеть. Должно быть, ему было приказано сидеть.
Рам улыбнулся, когда я вошел, но улыбка предназначалась не мне. Как будто ему вспомнилась старая полюбившаяся шутка.
— Да садитесь же, мой дорогой Геррон. — Еврейский староста и впрямь сказал „мой дорогой Геррон“. Пытался казаться радушным. А сам при этом глубоко втянул голову в плечи. Как человек, ожидающий удара. При моей профессии научаешься читать такие знаки.
Я сел. Рам, казалось, не заметил этого. Он вел какую-то игру, правил которой я не понимал.
У Эпштейна в руках была бумага, но он не читал ее. Просто крепко держал. Нервозному актеру нужно что-нибудь из реквизита.
— Шестнадцатого августа, — сказал он. — Так было только что решено. Среда. Но это роли не играет. Итак, повторяю: начало съемок шестнадцатого августа. Ведь вы к этому сроку все подготовите?
Рам полировал ногти о лацкан мундира.
— Со сценарием проблем нет, — сказал я. — Но техническая сторона, камера, звук и так далее — об этом ведь еще пока и речи не было.
— Все будет, — сказал Эпштейн. — Вам не надо ломать над этим голову. Все будет здесь пунктуально. Не так ли?
Он поставил вопрос в пустоту. Ни к кому не обращаясь. Но и ответа никакого не получил. Рам что-то искал в кармане своей униформы.
— Сделано, правда, несколько замечаний по вашим предложениям, — продолжал Эпштейн. — Пункты, которые вы, пожалуйста, введите. — Теперь он все-таки начал читать по своей бумажке: — Первое: когда будете составлять план съемок — это ведь называется „план съемок“, так? — уборку помидоров назначьте как можно раньше.
Вот и на УФА высокое начальство всегда бросало свой орлиный взор на какие-нибудь мелочи. Но все можно преодолеть.
— Будем ориентироваться по погоде, — сказал я.
— Будет солнечно. Это точно, — Эпштейн произнес это с таким жаром, как будто Рам лично отдал распоряжение о хорошей погоде.
— Но почему назначить пораньше?
— Господа из СС, — сказал Эпштейн и угодливо поклонился сидя, — великодушно выразили готовность до съемок отказаться от свежих помидоров. Чтобы урожай в кадре выглядел богаче. Но они, разумеется, не хотят ждать долго.
Рам, оказывается, искал пилку для ногтей, но так и не нашел. Теперь он шлифовал ноготь о стену, то и дело испытующе разглядывая его.
— Второе, — сказал Эпштейн. — В футбольном матче не должно быть победителя. И нежелательно показывать ликующих людей.
— Это была бы эффектная концовка.
— Нежелательно, — повторил Эпштейн. Голос его задрожал. — Четвертое… — начал он.