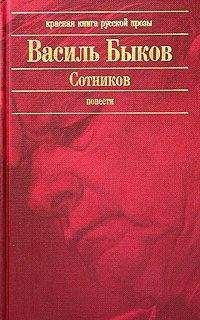Юрий Поляков - Грибной царь
… — Я, когда маленькая была, сюда часто ходила… — сообщила Тоня, когда они двинулись прочь.
— Зачем?
— Я боялась смерти и хотела воспитать себя.
— Воспитала?
— Не очень… Но мама сказала, что, когда я вырасту, изобретут таблетки бессмертия.
— И тебе тоже говорили?
— Да! И тебе?
— Ага!
Они почему-то засмеялись, и Свирельников ощутил к этой девушке, которую и знал-то всего несколько часов, почти родственную привязанность. Наконец они дошли до четырехэтажного дома на углу Большой Почтовой и Рубцова переулка, спускавшегося к замерзшей Яузе. Светилось единственное окно на третьем этаже.
— Мама не спит… — вздохнула Тоня. — Руга-аться будет!
— А ты ее не предупредила?
— Не-а! А ты где на Спартаковской живешь?
— Рядом с Домом пионеров.
— Где кинотеатр?
— Да.
— Я в Дом пионеров в кружок бальных танцев ходила. В седьмом и восьмом.
— А я на трубе там учился.
— Научился?
— Нет.
— Ну, пока! В театре увидимся.
Она забежала в подъезд, а Свирельников побрел к себе на Спартаковскую.
Утром, чуть свет, позвонил Веселкин:
— Ну?
— Что — ну?
— Трахнул?
— Больной, что ли?
— А чего ж вы делали?
— Мертвых смотрели.
— Каких мертвых?
— В морге.
Целую неделю курсант Свирельников томился нетерпением, проклиная себя за то, что не попросил у Тони телефон, но на долгожданный спектакль опоздал: надел свой единственный выходной костюм и, когда завязывал шнурки, брюки лопнули в самом интересном месте — за отпуск он прилично отъелся на домашних харчах. Зашивать было некогда, хоть мать и предлагала, пришлось срочно влезать в опостылевшую форму.
Влетев в зал после третьего звонка, в меркнущем свете он обнаружил всю их «группу захвата» в партере — в деликатном порядке: Синякин, Нина, Тоня, Веселкин. Между девушками зияло единственное на весь театр свободное кресло, сберегаемое специально для него. Появился Свирельников как раз в тот момент, когда какой-то контрамарочник, скорее всего студент «Щуки», нахально пытался занять его место. Махнув перед носом наглеца билетом, Миша рухнул в кресло и, наклонившись почему-то сначала к Нине, шепотом объяснил, что забыл документы, поэтому пришлось возвращаться. Затем он повернулся к Тоне и начал повторять то же самое, но она довольно резко оборвала:
— Потом!
На сцене уже появились Берлиоз с Иванушкой Бездомным. Но курсант Свирельников, не вникая в знаменитый спор о Христе, пытался понять совсем другое: если от Нины просто пахло хорошими духами да еще какими-то привлекательными женскими пряностями, то ее подруга источала совершенно особенный телесный аромат, одновременно будоражащий и успокаивающий. Казалось, этот запах он знал очень давно, чуть ли не с бессознательного детства. Потом появился Воланд со свитой, покатилась отрезанная голова председателя МАССОЛИТа, Маргарита, ухватившись за канат, заметалась над сценой, восхищая зрителей обнаженным антисоветизмом. И он увлекся спектаклем.
В антракте Свирельников наконец рассмотрел Тоню на свету без пальто и шапки. Если она и была похожа на Надю Изгубину, то не внешними частностями, а скорее общим выраженьем — гордым и добрым одновременно. У нее оказалось круглое, серьезное лицо, большие темные строгие глаза, темно-русые волосы, стриженные «под пажа». (Очень модная в ту пору прическа!) Одета она была в черные широкие брюки и фисташковую кофточку из ангорки. Под кофточкой обнаруживалась весьма возвышенная грудь. А по поводу ее бедер Вовико незаметно, когда девушки отвернулись, с восхищением развел руками. Словом, студентка с покрасневшим на морозе носом, которую он провожал неделю назад домой, понравилась окончательно и бесповоротно. Огорчало только то, что вела она себя подчеркнуто холодно, точно не было никакой прогулки по ночной Москве, никаких откровенных разговоров и окна в морг.
Стоя в буфетной очереди, вся «группа захвата» шумно обсуждала спектакль, и Свирельников, романа еще не прочитавший, сморозил глупость, чуть не погубившую на корню будущую любовь. С совершенно детским простодушием он спросил:
— А что будет дальше?
— С кем? — уточнила, обидно прыснув, Нинка.
— С Мастером… и Маргаритой…
— Они умрут, — холодно ответила Тоня.
— А потом поженятся… — добавил мерзкий Синякин, читавший к тому времени даже ксерокопированное «Собачье сердце».
— Как это? Так не бывает!
— Бывает, — вздохнула Тоня и с обидой посмотрела на него. После окончания спектакля она — к радости Веселкина — не позволила курсанту Свирельникову проводить себя до дому. Кстати, ей постановка не понравилась: она назвала ее «большим капустником», а через год, в межпоцелуйной истоме, созналась, что влюбилась в Свирельникова именно в тот день. Ей нравились мужчины в форме, и в своих девичьих мечтах она всегда хотела выйти замуж за офицера. И тогда он со смехом рассказал Тоне про лопнувшие цивильные брюки.
— Это судьба! — вздохнула она.
— А почему же ты меня в тот день отшила?
— По двум причинам.
— По каким?
— Во-первых, никогда нельзя говорить женщине, что она на кого-то похожа!
— Понял. А во-вторых?
— А во-вторых, потому что ты трепло!
— Я?
— Ну конечно! Зачем ты сказал Веселкину, что мы подглядывали в морге?
— Я не хотел… Я случайно…
— Случа-айно! Это же моя тайна! Разве ты не понял?
— Значит, ты из-за этого не разрешила тебя проводить?
— Конечно.
— А хотелось?
— Конечно!
— Но мы же могли больше никогда не встретиться!
— И это тоже была бы судьба!
…Когда вышли из театра на улицу, Синякин предложил на память сфотографироваться.
— Темно! — засомневался Веселкин.
Но Петька гордо вынул из кармана крошечную «Минолту» со встроенной вспышкой — жуткий дефицит, привезенный ему родителями из-за границы. «Группа захвата» встала рядком (причем Тоня демонстративно отгородилась от Свирельникова Нинкой), все хором сказали «чи-из» и запечатлелись, озаренные мгновенным светом.
— Теперь давай я! — предложил Вовико.
— Вот сюда нажимать! — важно объяснил Петька.
— Не учи отца щи варить!
В Ленинград однокурсники возвращались вместе и каждый раз, когда выходили в тамбур покурить, Веселкин вспоминал все новые и новые подробности прощальной ночи любви, устроенной ему неутомимой кассиршей. Интересно, что вытворяла она в постели все те же бесстыдные чудеса, которые были изображены на картинках эротического комикса, ходившего в «Можайке» по рукам.