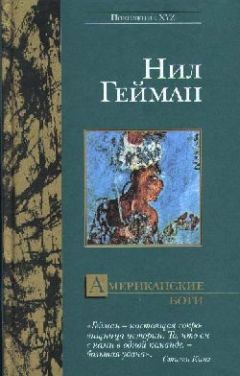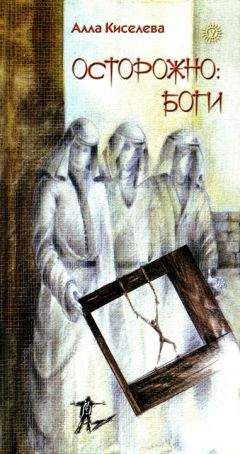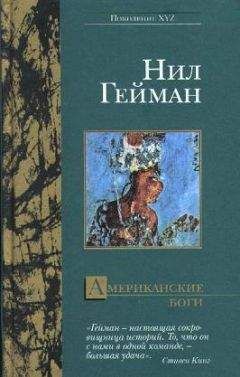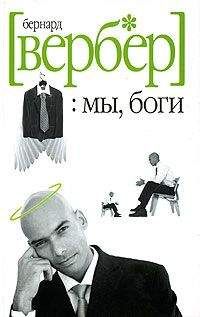Петр Проскурин - Судьба
Пока Брюханов оглядывал избу и детей, сам хозяин вымыл руки над ряшкой (младший сынишка Захара, черноглазый Егорка, слез с печи полить отцу и стоял, перебирая босыми ногами, потому что по земляному полу сильно тянуло холодом). На столе как-то незаметно появилась сразу запотевшая с мороза бутылка водки и сытная деревенская закуска: крупно нарезанное сало, квашеный кочан капусты, свежие, пахнущие душистым сеном яблоки и вареные яйца; Захар сам нарезал хлеб из большого, вполобхвата, каравая, прижимая его к груди.
— Может, твоего кучера позвать поесть? — спросил Захар, кивая в сторону двери. — Поди, тоже проголодался.
— Не надо, успеется, — остановил его Брюханов. — Посидим, поговорим вдвоем.
Бабка Авдотья подала Брюханову чистый рушник, расшитый большими красными петухами на концах.
— Накрой-ка коленки, — сказала она с привычным доброжелательством к гостю. — Накапаешь, жалко будет, сукно-то хорошее.
Брюханов взял рушник, положил его на колени.
— А хозяйка сама где? — спросил он у Захара, невольнo подстраиваясь под обстановку и чувствуя себя здесь удивительно привычно и легко.
— Работает, где же ей быть, — отозвался Захар, отбивая ножом сургуч с бутылки. — На работе, навоз возит, трудодень заколачивает.
— Время летит, — думая о своем, задумчиво произнес Брюханов, вспоминая почему-то серые глаза дочери Захара. — Когда же Аленка так успела вымахать, а, Захар?
— Растут на воле, как грибы, что им сделается, нам думать некогда, вот и успеваем, — усмехнулся Захар и стал разливать водку; этим резким «нам» он не только отделил себя от Брюханова, но и отождествил себя с каким-то множеством других, не известных Брюханову людей, что делают основное в жизни — сеют хлеб и строят, рожают детей и растят их; в его голосе прозвучало превосходство старшего, Брюханов с горечью отметил это про себя. Он без отказа взял придвинутый к нему стакан, выпил и стал закусывать пахучим солоноватым салом; и хлеб был хороший, свежий. Старуха разожгла на загнетке угли и стала жарить глазунью в большой черной сковороде. Брюханов сказал было Захару, что не надо ничего делать ради него, но Захар не дослушал, опять на лица у него появилась незнакомая Брюханову усмешка.
— Почему же только ради тебя? — спросил он, наливая еще водки. — Гость гостем, да мы и себя не обижаем. Ну, давай, что ли, за былое, а? У нас раньше лучшие времена бывали, вот давай за них, что ли.
— Давай, Захар, — в тон ему кивнул Брюханов, поднимая стакан.
Захар подождал, пока Брюханов выпьет, выпил сам, но закусывать не стал, свернул цигарку и густо задымил; обычно курить мать гнала его из хаты, но сейчас ничего не сказала. Захар взглянул сбоку на ее каменно-спокойное лицо, про себя похвалил ее, умела, старая, когда надо, смолчать.
— Хочешь начистоту, Тихон? — внезапно спросил он, пристально заглядывая ему в глаза. — Нужно было скукожиться, затаить дух, перемочь. Удержись я в этот момент, никто бы меня не осилил. — Он говорил все с тем же веселыми выражением глаз, и нельзя было понять, припоминает он свои выношенные мысли так, к случаю, или говорит от гложущей по-прежнему обиды. — Знаю, не враг ты мне, оттого и горше. Просто у тебя времени на меня не хватило, я понимаю. От врага-то легче было бы стерпеть, тот просто взял бы и придавил.
У Брюханова сразу отяжелело лицо, но он не опустил глаз, достал свой, хорошо знакомый Захару, тяжелый, отделанный тисненой кожей портсигар и закурил.
— Да ты не вскидывайся, это я уже так говорю, без зла. А тогда я на весь белый свет озлился, и больше всего на тебя, Тихон, озверел. Через тебя и бросил партбилет, словно какой поморок на меня нашел. Не должен был, а бросил, бросил! А потом уж понесло меня... А кому польза от этого вышла? Ни тебе, ни мне. Может, Родиону Анисимову да таким как он.
Брюханов машинально засек произнесенное Захаром имя; да, был только один путь: сказать все друг другу начистоту, определить не формальную сторону дела, формальная сторона дела давно разделила их, нужно было каждому вынести простую и честную оценку себе, как когда-то во время бешеных атак, грудью на грудь, и сейчас ничто не могло помешать этому. Да, много воды утекло с тех давних пор, какой-то комок горькой радости подступил к сердцу оттого, что они сидят вместе, как когда-то, за одним столом и говорят друг другу самую затаенную горькую правду. От водки и духоты тесной избы Брюханова разморило, и он с размягченной нежностью смотрел на Захара, чувствуя, что молодые годы все-таки связывают их, несмотря ни на что, пусть нет прежней душевной близости, которая была когда то между ними в гражданскую, и возраст не тот, и разница в положении, в интересах слишком большая. И все-таки ему было хорошо в этой темной бедной избе; словно прорвался давний наболевший нарыв и покой после постоянной, ноющей боли сморил; даже разговаривать не хотелось. Он с горечью отмечал про себя бедность обстановки и стесненность, проглядывающую в каждой мелочи, изумляясь невольно, как в этой тесноте могли жить четверо детей и трое взрослых; кровать за чистым ситцевым пологом была придвинута вплотную к лежанке, под которой содержался в зимнюю пору теленок, и оставалось лишь место для стола и лавок, на которых днем сидели, а ночью спали. Дети, двое мальчуганов, по-прежнему лежали на печи и в две пары глаз беззастенчиво рассматривали Брюханова; и вновь тихая тоска сдавила грудь Брюханову. В этой тесноте и бедности было что-то такое необходимое для жизни, чего недоставало ему самому. Захар сидел и курил, стряхивая пепел в какую-то жестянку и раздумывая, ставить ли ему на стол еще бутылку первака, водки в доме больше не было; если появление Брюханова он встретил откровенно враждебно, то теперь его враждебность схлынула, что ж, и Тихон — человек, думал он, и его можно понять, если по-хорошему.
Он все-таки решил выставить бутылку самогонки, и Брюханов, увидев ее на столе, нерешительно замялся, сказал, что, пожалуй, не стоит больше; Захар только засмеялся и уже наливал.
— Ладно, — сказал он, — когда нам еще с тобой такой случай выпадет? Подумать, и мы были когда то безусые, а теперь вот своя гвардия подросла, Ивану-то моему, старшему, двенадцать скоро.
— Вот давай за них, Захар, жизнь у них будет другая, ясная. — Брюханов уже не чувствовал вкуса самогона и выпил стакан до дна, как воду. — Говоришь, двенадцать? Не успеешь оглянуться, как надо будет определять парнишку.
— Вырастут, сами определятся.
— Вырастут-то вырастут, да на то ты и отец, чтобы подсказать, направить. Давай его в Холмск, Захар, как школу закончит. Филиал машиностроительного открываем. Инженером будет. Чувствуешь, Захар?
— Дожить еще надо, Тихон. Там видно будет, это верно, дороги им все открыты, была бы голова на плечах. Что ж, сам так и не собрался бабой обзавестись? Или зазноба какая присушила? — снова подступил к нему Захар, свертывая цигарку.