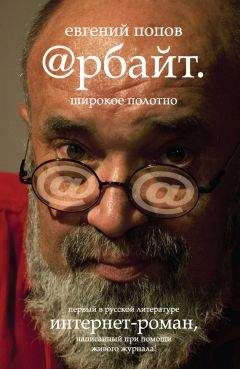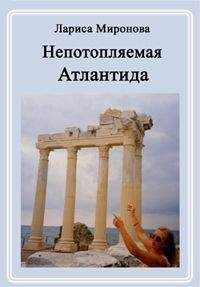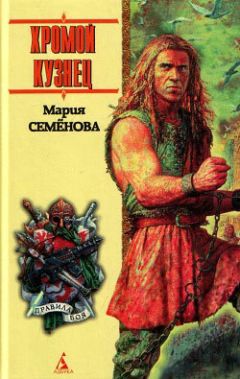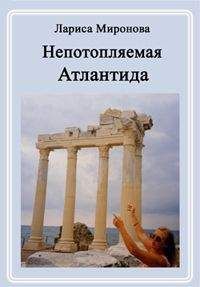Лариса Миронова - На арфах ангелы играли (сборник)
Иван печенкой чувствовал это тектоническое движение, понимая, что грядущая эпоха всё сметет на своем пути, всё перевернет вверх дном, и утвердится на долгие годы.
И только одно обстоятельство лишало его радости участия во всеобщем обновлении – эта, едва различимая для стороннего наблюдателя, однако вполне очевидная для внимательного наблюдателя, заданность направления текущей жизни.
Из книг, которые оставил ему в наследство отец, он знал, что смены культурно-исторических эпох происходят объективно. Символизм родил наследника в виде акмеизма-адамизма и эгофутуристов, которые, едва родившись, тотчас же по рождении решили поглотить своего родителя. И это было законно – вполне в духе времени!
В противовес символистам, признающим одни лишь символы, акмеисты провозгласили самоценность явлений. В гомельских литературных кружках боготворили Ахматову, Городецкого, Мандельштама, объединившихся вокруг знамени, на котором было начертано: возврат к Адаму, к первородной чистоте, к чувству цельности, к природе, наконец, – их искренне почитали и взапой читали всё, что выходило из печати или ходило по рукам в списках, а потом – взахлеб обсуждали.
Тезис о явлении как самоцели был принят с особым энтузиазмом.
Но акмеисты, по печальному недоразумению, не узрели, что новые слова, торжественно и пышно ими сказанные, вовсе не были новыми…
Вот это-то и казалось Ивану странным в новой общественной жизни – на время у людей как бы отшибало память, а потом, после тяжелых опытов жизни, они вдруг как бы всё вспоминало заново. Такая постоянная временная потеря памяти очень напоминала некую болезнь, вроде рассеянного склероза, но болело ею с удивительным постоянством целое общество.
Вот и кружила общественная мысль, как собака на затерянном следу, в поисках той ниточки Ариадны, которая и приведет, наконец, к заветной цели.
Новаторство футуристов, ставшее в короткое время притчей во языцех, скандально организовало вокруг себя значительную часть публики, которая ещё вчера только одним интересовалась по-настоящему – эротической литературой. Но теперь вопросы пола уверенно отодвигались на второй план, и даже не верилось, что ещё два года назад ни одно серьезное явление в искусстве не мыслилось без связи с этой, запретной некогда, проблемой.
Под щитом футуристов распускали лепестки новые литературные соцветия.
Отцы символизма поспешили произнести теплые слова над колыбелью новорожденного литературного младенца. Брюсов, Мережковский тоже, хотя и очень осторожно, поприветствовали футуристов. И осторожность эта была вполне объяснима. Стоит лишь вспомнить те времена, когда символизм был под запретом, и каждый записной рецензент издевался совершенно безнаказанно над «бледными ногами» Брюсова, а Сологуб принужден был печататься на страницах третьесортных журналов, чтобы понять, почему символисты так осторожничали в отношении футуристов.
История должна не повторять ошибок. Или хотя бы – должна стремиться к этому. Но сейчас этого сказать было нельзя, иначе будущее литературы представится ужасным бездорожьем, на котором мелькают и маячат без определенной цели всевозможные направления.
И всё же. Идут, идут уже из самых недр жизни, из запретных глубин того быта, на который недавно смотрели сверху вниз, из лона той природы, которая открывает своё богатство только влюбленным в неё…
Ещё одно открытие сделал Иван – можно сочетать мрачное отчаяние, из которого спасение только смерть, и бесконечную радость и ожидание близкого счастья.
Из новых авторов он брал для чтения Шмелева, Тренева, Никандрова. Из старых – Горького, Вересаева, Бунина. Они-то и пели над горькой, оплаканной символистами жизнью романтическую песнь возрождения.
В унисон этому новому пробуждению духа прозвучали юбилейные торжества Короленко и Огарева.
Так появился ещё один повод заговорить о «не умирающих традициях героической русской литературы».
Так прошел год, отметив резкие рубежи. И как вся страна зашевелилась, так и умы пробудились, и жизнь стала наслажденьем.
…Все эти отвлеченные мысли, высказанные в его статьях, были несказанно далеки от крестьянского быта, всей той жизни, которою он должен был теперь жить, потому что так распорядилась судьба и его родители. Но он привык жить в относительной воле – даже в редкие его приезды домочадцы не заставляли его работать по хозяйству, по какому-то молчаливому сговору, оставляя за «грамотеем» право жить своей вольной жизнью.
Мария же, хотя и была совсем другим человеком, нежели Иван, и если бы он встретил её в городе, вряд ли они были бы хотя бы знакомы, всё же стала ему близким человеком и, хотя держала расстояние и внешне была холодновата, любила его искренне и страстно. Какая-то невидимая, но очень прочная нить связывала эти два, такие разные «на погляд», существа. Иван в своих городских отлучках любовей на час не заводил, и, тем более, серьезного интереса у него никто так и не вызвал. Их любовь с Марией была уже без терпкости первого общения, но спокойной, крепкой и казалась вечной.
Любовь Марии была тихой, немногословной, Иван имел над всем её существом неограниченную власть, один звук его голоса заставлял холодеть нутром, но и сам Иван немного побаивался её тихого, полного чувства взгляда глубоких, светло-карих, ореховых глаз. Мария была старше, но с возрастом разница в летах сгладилась, и в зрелые годы уже Иван казался старше Марии, она же, дойдя до сорока трех, как-то враз перестала меняться и лицом, и телом, оставаясь надолго зрелой красавицей во цвете лет.
Уезжая в понедельник утренней моторкой, около пяти часов, он испытывал щемящую тоску в своем чутком, но очень скрытном сердце, однако плюнуть на все свои городские дела и остаться дома, на хозяйчстве, он всё же не смог бы.
Мария по утрам, когда уезжал Иван, вставала затемно, растапливала печь. Пекла любимые Иваном ладки из пшеничной муки, на сыворотке, приносила из погреба банку свежей сметаны, а накормив мужа, который, переместившись на диван, принимался за газету, готовила корм скотине и курам с утками. И только когда уже за Иваном закрывалась с громким лязгом калитка, садилась на лавку у окна и долго смотрела перед собой, думая свою бесконечную думу.
Иван же, подойдя к пристани и заслышав гудок причаливающей моторки, быстро забывал о своем внезапном томлении и, заняв место у окошечка, на нижней палубе, привычно уже думал о том, какие книги он возьмет в библиотеке, с кем встретится в кружке и на какую лекцию пойдет в среду.
Шел четырнадцатый год. Шестого июля гомельская общественность решила устроить большое пароходное гулянье по Сожу до Ченок. Средства собирали для Еврейской детской колонии для сирот. Играл духовой оркестр, жгли фейерверки, хлопали хлопушки, на ярко освещенной набережной раскинулись палатки, где было всё – даже настоящий голландский товар чистого льна. Цены были решительные, купцы вели торг дешево и без обмана. Ивана привлек веселый шум у одной из палаток. Высоко над прилавком висел портрет пожилого господина со щедрой улыбкой, и под ним была яркая надпись крупными буквами: «Много сил я потратил, никогда не был весел, всё что-то тяготило, а сейчас я познал улыбку веселья и счастье жизни. Ранее я был стыдлив с женщинами, вечно был недоволен собой, а теперь мне рады в любом обществе. Сто раз спасибо за целебный препарат „Био-Ласлей!“»
– От чего это? – спросил Иван у сосредоточенного старичка, который всё никак не мог отыскать кошелек в широком кармане пальто.
– Говорят, от этого самого, от онанизьмы. И куда только кошелек мой подевался?
– А это от чего? – спросил Иван у продавца, беря с прилавка флакончик с яркой наклейкой.
– От зеленого змия, господин хороший, – ответил услужливый продавец. – Спасение для тех, кому проклятое пьянство искалечило жизнь и жизни всех членов семьи. Я сам когда-то страдал этим недугом. И вот, благодаря чудесному снадобью, я исцелился весь целиком, и радости моей сегодня нет конца. Конечно, можно купить коробочку «Ситравин-Эмбрэй» в аптеке господина Рафаловича и ждать четыре месяца результата, но моё средство действует мгновенно – примите сейчас и о вине вам даже вспоминать будет противно!
Мужики застенчиво ухмылялись и подталкивали друг друга локтями. Но желающих попробовать чудотворное снадобье так и нашлось.
Иван получил задание от редакции – написать репортаж о народном гулянье в пользу еврейских сирот. В последний год вряд ли выходил хоть какой-то номер без материала о еврейском вопросе, теперь это была важнейшая тема общественной жизни. Все, кто хотел завоевать доверие публики, независимо от темы своего выступления, всегда начинали речь с высказываний о том, что «евреев притесняют», «не дают развиваться и продвигаться»…