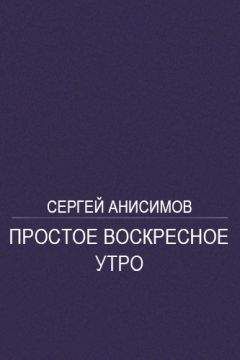Вионор Меретуков - Дважды войти в одну реку
— Нет, правда! Только три чайные ложки кофе и много-много сахару. Я старался сделать как лучше…
— Вам это удалось, — с горечью сказал Грызь.
— Я думал, вам понравится…
— Мне и понравилось. А вот моему желудку не очень…
— Я искренно сожалею…
— Ладно уж, кто старое помянет… Короче, когда я из больницы вышел, место мое, как водится, было уже занято. Ну, занято и занято. Делать нечего. Не помирать же мне от голода, в самом деле. Стиснул зубы и пристроился опять в постовые. Стою это я как-то на посту, на Кутузовском проспекте, стою это я, значит, и вижу, несутся штук шесть черных машин, и несутся, должен отметить, прямо по середине проезжей части. И несутся с такой сумасшедшей скоростью, что… Словом, я и…
Полковник замолчал.
— Ну, вы и?..
— Ну, я и взмахнул жезлом, словно, меня чёрт под руку…
Полковник опять замолчал.
— И?..
— И очнулся опять в Склифе. Только в другом отделении… и не просто в другом, а совсем в другом, в реанимации. Кстати, вы не знаете, где мой пистолетик?
Грызь видит в зеркале, как старина Гарри опять делает круглые глаза.
Полковник грозит ему пальцем.
Старина Гарри сдается.
— Так уж и быть: это я взял. Правда, я им так ни разу и не воспользовался, — признается Зубрицкий. — А стоило бы. Хорошо бы прикончить какого-нибудь известного депутата. И свалить всё на вас. И поделом бы вам было. Чтоб не разбрасывались табельным оружием. Чёрт с вами, верну, как только приедем в Москву, не бойтесь.
— Можете оставить себе, — сказал великодушный полковник. — Я себе давно другой справил. В Малаховке купил, на рынке. Там этого добра не счесть! И куда только наша милиция смотрит?!
Старина Гарри завершил бритье и полез в ванну.
— Вы когда-нибудь мне доскажете, наконец, чем у вас там, в Склифе, дело-то кончилось?
Грызь вошел в ванную комнату и сел в кресло рядом с искусственной пальмой.
— Я ведь знал, — сказал он, — что агенты президентской охраны или из охраны премьера в таких случаях, если кто жезлом махнет или какое другое резкое движение сделает, сразу на поражение стреляют… А все-таки махнул я этой проклятой палкой, будто меня кто подтолкнул… До сих пор понять не могу, кой чёрт меня дернул…
Тут голос Грызя заиграл, завибрировал, сфальшивил, как бы съехав с основного тона в сторону унтертона.
Но старина Гарри за шумом льющейся воды ничего не заметил.
— Ну, они и пальнули, — выправился Грызь. Голос его звучал по-прежнему уверенно. — Хорошо ещё, что пуля по касательной прошла, вскользь, а то несдобровать бы мне… А так только голову поцарапало, да плюс контузило слегка.
Старина Гарри, перекрывая шум воды, закричал из душа:
— Должен с удовлетворением отметить, что это пошло вашей голове на пользу! Это просто удивительно, какая у вас память на слова! Не память, а стальной капкан! Всем на зависть! Вон как у вас башка варит! Как у Шерешевского!
— Шерешевского, говорите… Знавал я одного такого Шерешевского, ну и типчик был, скажу я вам, карманы резал, как бог.
— Да нет! Это, наверно, не тот. Был такой уникум. Шерешевский. Такие люди рождаются раз в тысячу лет. Обладал феноменальной памятью. Помнил все дни своей жизни. До мельчайших подробностей. То есть помнил по часам, даже по минутам. Потрясающий был человек! Подайте, пожалуйста, полотенце. Спасибо. Да, удивительный был человек, память фантастическая! И у вас, похоже, такая же память стала. Как называлась та улица? Курвахамобосратгад?..
— Кунгстрадгардгатан, — отчеканил Грызь.
— Как-как?
— Кунгстрадгардгатан.
— Силы небесные! Кто это может выговорить? Весь язык звучит, как одно сплошное нескончаемое ругательство. Не позавидуешь этим шведам. Несчастные люди. Это ж надо! Всю жизнь говорить на таком языке! Подумать только, они ведь на этом языке не только говорят, но и думают! Представляете, какие у них могут родиться мысли? И так всю жизнь! Тут одного-то слова толком не выговоришь, а они из таких слов составляют целые фразы и обмениваются ими, словно в лаун-теннис играют, то есть не только говорят, но и понимают то, что слышат в ответ! Как у них головы не отвалятся! Непостижимо! Это же издевательство, подвергать язык и уши таким испытаниям на прочность! Впрочем, возможно, такой ужасный язык им ниспослан в наказание за что-то… — разглагольствовал старина Гарри. — Чёрт вас возьми! Закончите вы когда-нибудь живописать трогательную историю о превращении вас из постового милиционера в опекуна нобелевского лауреата?
— Слушаюсь, Гарри Анатольевич! Короче, на мое счастье, это был кортеж премьера. Не знаю, что было бы, если бы я попытался остановить кортеж президента. Наверно, меня бы не пощадили… А тут на следующий же день в реанимацию нагрянул помощник премьера и предложил мне работу, которой я мог бы заняться после выздоровления и о которой я и мечтать не мог. И показал приказ о присвоении мне внеочередного звания полковника.
— От души поздравляю!
— Спасибо.
— И что это за работа?
— Работа как работа. Ежегодно сопровождать нобелевских лауреатов до Стокгольма и обратно…
Старина Гарри с уважением посмотрел на полковника.
— А когда я выздоровел, — продолжил Грызь, — меня прикомандировали к вам.
— Вы хотите сказать, что наша встреча случайна?
Грызь пожал плечами.
— А чёрт его знает. Вероятно, случайна.
— Послушайте, Петр Петрович! Вы не знаете, почему среди нобелевских лауреатов нет имён создателей новых видов вооружения? Награждают же у нас старика Калашникова орденами и медалями за то, что он создал автомат, из которого были убиты миллионы людей… Как это, наверно, здорово, изобретать оружие, которое потом снесет башку какому-нибудь несчастному афганцу или израильтянину. Конечно, заслуги Калашникова перед страной велики, и автомат превосходный… но как подумаешь, жутко становится… словом, ведь изобретатель, конструируя оружие, не может не думать о том, что он, в сущности, планирует убийство. Из его автомата убито людей больше, чем погибло при бомбежке Хиросимы и Нагасаки. Оружие должно убивать как можно больше людей, это понятно, в этом смысл боевого оружия. Но награждать за это… я думаю, это в высшей степени безнравственно. А Калашников изобретает сатанинский автомат и становится национальным героем. В двадцать первом веке…
— То, что вы говорите, можно объяснить лишь похмельным синдромом… Простите, но вы демагог!
— Вы думаете, я обижусь? Да, я демагог! И горжусь этим…
После бритья, душа и двух стопок виски с горячей и острой закуской старине Гарри стало настолько хорошо, что он приступил к процедуре одевания.
Полковник стоял у окна и жевал соленый сухарик.
Когда он увидел, во что облачился Зубрицкий, то замер с открытым ртом.
— Вы что, собираетесь в этом ехать в Москву?
Старина Гарри стоял вполоборота к огромному зеркалу. Он приосанился и стал рассматривать себя самым внимательным образом. Из зеркала на него с надменным видом взирал пожилой мужчина, облаченный в черную фрачную пару.
— А что? Не вижу ничего предосудительного в том, чтобы отправиться в родные пенаты в таком виде. Мне кажется, я никогда так хорошо не выглядел. Я одет по моде и выгляжу весьма презентабельно. Хотя фрак немного и помят… Может, отдать его в глажку? Как вы думаете, еще успеем?
— Знаете, на кого вы похожи? На подвыпившего уличного жонглера, забывшего наложить на лицо грим из серебристой пудры. Не хватает только обручей, стеклянных шаров, булав и котелка на голове…
— Котелок? Это мысль! Не знаете, где его можно приобрести?
— И ещё…
— Ну?..
— Шведские газеты пишут…
— Господи, да вы ещё и шведский язык выучили?!
— Пришлось… — потупился Грызь.
— И что ж там пишут?
— Описывая церемонию вручения вам Нобелевской премии, обозреватель "Афтонбладет" не удержался от злорадства. Он написал, что о вашем выходе на сцену изумленный зал узнал, когда за кулисами раздался цокот, предвещавший победоносное появление нобелевского лауреата верхом на кобыле. Оказывается, это вы так цокали подковками!
— Что ж тут удивительного? Я всегда оснащаю каблуки железными подковками. Подковки — это очень практично: каблуки не снашиваются. А звук, который они издают при ходьбе, отлично действует на меня, хочется…