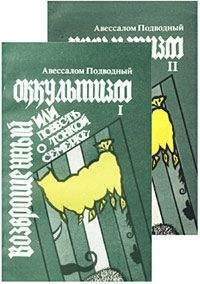Журнал «Новый мир» - Новый Мир. № 5, 2000
И прежде всего потому, что в основе всего лежит моральный выбор, а не какие-либо обстоятельства. Рим, как известно, пал не потому, что там жили дураки, а потому, что сила духа была на стороне варваров.
Андрей БЫСТРИЦКИЙ.Солженицын читает Бродского
Ровно сто лет назад два величайших русских мыслителя не сговариваясь обрушились на двух поэтов, занимавших огромное место в умах и сердцах российского читателя. Лев Толстой выступил с длинным — на семьдесят страниц — очерком «О Шекспире и о драме» (1900); Владимир Соловьев написал статью «Лермонтов» (1899).
«Содержание пьес Шекспира… — пишет Толстой, — есть самое низменное, пошлое миросозерцание, считающее внешнюю высоту сильных мира действительным преимуществом людей, презирающее толпу, то есть рабочий класс, отрицающее всякие не только религиозные, но и гуманитарные стремления, направленные к изменению существующего строя.
…У Шекспира нет естественности положений, нет языка действующих лиц, главное, нет чувства меры, без которого произведение не может быть художественным.
…Искренность совершенно отсутствует во всех сочинениях Шекспира. Во всех их видна умышленная искусственность, видно, что он не in earnest (не всерьез), что он балуется словами».
Соловьев же просто объявил Лермонтова падшим человеком, целиком поддавшимся дьявольским соблазнам гордыни и бессердечности.
«Мы не найдем ни одного указания, чтобы он когда-нибудь тяготился взаправду своею гордостью и обращался к смирению. И демон гордости, как всегда хозяин его внутреннего дома, мешал ему действительно побороть и изгнать двух младших демонов (злобы и нечистоты. — И. Е.) и когда хотел — снова и снова отворял им дверь…
Лермонтов ушел с бременем неисполненного долга — развить тот задаток великолепный и божественный, который он получил даром. Он был призван сообщить нам, своим потомкам, могучее движение вперед и вверх к истинному сверхчеловечеству, — но этого мы от него не получили… Облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает еще их привлекательными для неопытных…»
И вот сегодня, словно отмечая столетний юбилей тех словесных баталий, что отгремели в России в начале XX века, Александр Исаевич Солженицын пишет о поэзии Иосифа Бродского («Новый мир», 1999, № 12). Даже читатель, не являющийся профессиональным филологом, может заметить, какой огромный труд был вложен в эту статью. Каждая мысль в ней, каждый тезис подкреплены и проиллюстрированы множеством строчек-цитат из стихов Бродского. Поистине эта статья — подвиг скрупулезности и усидчивости. Подвиг, оставшийся без вознаграждения, ибо автор здесь трудился, явно не получая эстетического наслаждения от рассматриваемого материала. Разбор, анализ, сопоставление, одобрительные и отрицательные оценки — всему нашлось место в этом исследовании, кроме простого читательского восхищения стихами.
Нет, в отличие от Толстого и Соловьева, Солженицын не становится в позу обвинителя и тщательно избегает прокурорских интонаций. Он находит много достоинств в поэзии Бродского, выделяет превосходные стихи, строчки, образы. Вот о стихах ссыльного периода: «Ярко выражено, с искренним чувством, без позы». «Отменно удачная „Большая элегия Джону Донну“». «В рифмах Бродский неистощим и высоко изобретателен». «Образы, тропы, сравнения бывают хороши». «Во всех его возрастных периодах есть отличные стихи, превосходные в своей целости, без изъяна».
И все же основной тон статьи — раздражение и разочарование. «Принятая Бродским снобистская поза диктует ему строить свой стиль на резких диссонансах и насмешке, на вызывающих стыках разностильностей, даже и без оправданной цели».
«И грубую разговорность он вводит в превышенных, неоправданных дозах».
У него «иронией — все просочено и переполнено». Например, весь цикл сонетов к Марии Стюарт «написан словно лишь для того, чтобы поразить мрачно-насмешливой дерзостью».
«Беззащитен оказался Бродский против издерганности нашего века: повторил ее и приумножил, вместо того чтобы преодолеть, утишить».
«Чувства Бродского… почти всегда — в узких пределах неистребимой сторонности, холодности, сухой констатации, жесткого анализа».
«Музыкальности — во множестве его стихов никак не найти, не услышать именно звучания, богатого и значительного, скорей — звуковое однообразие».
«Не находя не то что цели, но даже смысла в повседневном течении жизни — Бродский не струится вместе с жизнью, и не идет с ней об руку — но бредет потерянно, бредет — никуда».
«Нельзя не пожалеть его».
Все эти характеристики и оценки обильно подкреплены цитатами, по необходимости (а порой и намеренно) — укороченными, оборванными. Но память привычно откликается, узнает — продолжает и раздвигает оборванные строчки и строфы. И хочется сказать: «Да помилуйте, Александр Исаевич, — разве же злостью пронизана „Речь о пролитом молоке“? Разве не есть вся она — завернутый в трагикомическую форму, но искренне гневный вопль поэта против тех, кто завел страну и мир в моральный и экономический тупик? Разве не перекликается „Я люблю родные поля, лощины…“ с лермонтовским „Люблю отчизну я…“? И не здесь ли сказано прямым текстом: „Зло существует, чтоб с ним бороться, / а не взвешивать в коромысле“? И как же можно приписывать озлобленность автору, который кончает свое стихотворение чуть ли не песенной строфой: „Зелень лета, эх, зелень лета! / Что мне шепчет куст бересклета?.. / Ходит девочка, эх, в платочке, / Ходит по полю, рвет цветочки. / Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки…“»
Или о сонетах к Марии Стюарт. Ну да, с королевами не принято говорить таким тоном и таким языком. Но как еще иначе можно было изобразить то, что случилось с нашим поколением в послевоенном, послеблокадном Ленинграде? «Вчерась», «атас», «накнокал» и проч. — да, это был наш язык, язык городской шпаны, для которой главными героями были уголовники с золотой фиксой на переднем зубе, а главным аргументом в споре — кулак или финка. И вдруг в этот мир голодного убожества и повседневного насилия («В конце большой войны не на живот, / когда что было жарили без сала») — через моря и века, тоненьким лучом кинопроектора, на экран, натянутый в бывшей церкви, — выносится образ шотландской королевы и пронзает сердце на всю жизнь, — да есть ли на свете такие языковые «сдёрги» и «диссонансы», которыми можно было бы адекватно воссоздать подобное чудо?
Или об иронии Бродского. Нет, не от западных интеллектуалов затекала она к нам, а прямиком из самых главных русских книжек — из томиков Пушкина. Каждый глоток пушкинской иронии был в юности как глоток кислорода. Ибо полное отсутствие иронии было главным свойством тех, кто распоряжался нашей жизнью, а потому любой проблеск ее ощущался как знак душевного освобождения. Пушкинский Моцарт может сказать о себе: «Но божество мое проголодалось», а Сальери не может — и за эту-то легкость, а вернее, летучесть души и сердится на него. В доказательство «безысходной замкнутости» Бродского в себе Солженицын приводит строчки: «Кого ж мы любим, / как не себя?» Но ведь это чуть ли не прямой парафраз грустно-ироничного пушкинского: «Кого ж любить? Кому же верить? / Кто не изменит нам один?..», кончающегося: «Любите самого себя, / Достопочтенный мой читатель. / Предмет достойный: ничего / Любезней, верно, нет его».
Ирония Бродского сродни иронии Пушкина, Гёте, Шекспира. Томас Манн называл такую иронию эпической и писал, что ей вовсе не сопутствует «холодность и равнодушие, насмешка и издевка. Эпическая ирония — это скорее ирония сердца, ирония, исполненная любви; это величие, питающее нежность к малому».
«Порой поэт демонстрирует высоты эквилибристики, однако не принося нам музыкальной, сердечной или мыслительной радости», — пишет Солженицын.
В этой фразе особого внимания заслуживает местоимение «нам». Как велико это «мы», от имени которого выступает здесь Солженицын-читатель? Из кого оно состоит? И где проходит граница между ним и другим «мы» — тем, которое уже в начале 60-x перепечатывало по ночам строчки еще никому не ведомого поэта, заучивало их наизусть, сбегалось на его редкие выступления? Тем «мы», которому вызываемые в памяти строчки Бродского служили защитой и убежищем от бессмыслицы обязательных политзанятий, от стыда комсомольских собраний, от стужи долгих проездов в набитом трамвае? Что двигало нами тогда — еще до громкого суда, международного шума, признания и славы? Думается, только это: «музыкальная, сердечная и мыслительная радость», доставляемая его стихами.
Описать свое неприятие того или иного поэта — нетрудно. Но как описать радость? Она так текуча, так неподвластна словам. Хотя по серьезному счету в разговоре о поэзии только это и достойно внимания. Ибо поэтическое чудо происходит не в тот момент, когда «новый Дант склоняется к листу и на пустое место ставит слово», а в тот момент, когда это слово — по законам бахтинского диалога — достигает слушающего и слышащего и остается у него в сердце.