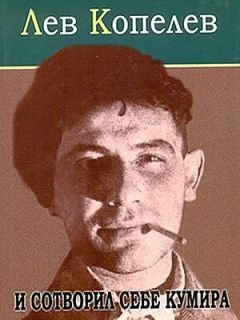Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 6 2010)
В России во второй половине XIX века произошла своего рода культурная революция, связанная с расширением круга читателей. К 1860-м годам грамотой владело, по подсчетам исследователя, не более восьми процентов взрослого населения страны. Однако именно в это время происходит «резкое увеличение средних читательских слоев», которое привело к появлению принципиально нового литературного феномена — классического русского толстого журнала , вытеснившего аристократический альманах. Журналы выписывали из экономии («По подсчетам Н. К. Михайловского, толстый журнал давал в 1860-е годы читателю за 12 — 15 рублей столько разнообразного материала для чтения, сколько в виде книги стоило бы ему 30 — 40 рублей»); однако в первую очередь они были средством воспитания широких слоев интеллигенции со стороны лиц, претендовавших на интеллектуальное и политическое лидерство. Один из читателей признается, что смолоду относился к любимому журналу как к «источнику откровения, единственно верному руководству на жизненном пути». Другим средством руководства интеллигентскими массами (а также «приличным, „порядочным” способом получения денег для лиц привилегированных сословий») было содержание платных публичных библиотек.
Но кроме средних были и массовые, низовые читательские слои, тоже резко и быстро выросшие. Для них существовала «малая пресса» (вроде «Петербургского листка»), тонкие журналы. Наконец, грамотные мужики, которые в 1830-е годы, по словам такого специалиста по книжному рынку, как Ф. В. Булгарин, отдавали предпочтение духовным книгам, путешествиям по святым местам и «весело-нравственным повествованиям», мало изменили свои вкусы. И в конце столетия круг их чтения составляли духовные книги (от 40 до 60 процентов в разных губерниях), дидактические сочинения и всякого рода архаическая развлекательная беллетристика — «милорд глупый» и бессмертный Бова. Эту часть аудитории тоже пытались «воспитывать», но, судя по всему, без большого успеха.
В сущности, все содержание литературно-социальных процессов во второй половине века сводилось к борьбе «направленческой», «учительной» этики литературного труда с рыночной стихией. Закономерно внимание исследователя к такому жанру, как «роман литературного краха», где этот конфликт лежит в основе сюжета. Реальная литературная жизнь, однако, давала поле для достойного компромисса.
В списке наиболее читаемых книг по годам, составленном исследователем, шедевры Толстого, Достоевского, Тургенева, Гончарова соседствуют со «злободневными» опусами Потехина, Боборыкина, Всеволода Соловьева — но в приемлемой пропорции; в рейтинговые списки наиболее высокооплачиваемых писателей попадают лишь немногие из сочинителей откровенной «развлекухи» (Салиас, Крестовский), причем далеко не на первых ролях (первые строки рейтинга занимают поочередно Толстой и Тургенев, а в 1900-е годы — Горький, которому платят больше, чем Чехову; за один авторский лист прозы буревестник революции получал столько, сколько гимназический учитель за год).
Вторую часть книги составляют статьи, примыкающие к основному исследованию. Они также содержат чрезвычайно ценный и умно сгруппированный фактический материал, но иногда слишком категоричны в выводах. Например, статья о детективах в России начала XX века заканчивается очень ярким пассажем, объясняющим слабое распространение этого жанра недостаточной развитостью правового мышления и общей отсталостью страны. Но правовое мышление и ныне — не самая сильная сторона российской цивилизации, а детективы более чем популярны. Или вот завершение статьи «Символисты, их издатели и читатели»: «Таким образом, будучи новаторами в эстетической сфере, в сфере литературного быта, символисты придерживались архаичных (для конца XIX — начала XX века) романтических антирыночных установок. В реальности, разумеется, прожить с такими установками было нельзя, поэтому, несмотря на все декларации, по мере расширения своей аудитории литераторы-символисты начинали входить в общую литературную систему и подчиняться законам рынка». Здесь приходит в голову целый ряд возражений. То, что произведения нескольких символистов (Сологуба, Ремизова, Блока) достигли окупаемости, еще не означает, что «новое искусство» в целом перестало быть убыточным и нуждаться в спонсорских вложениях; молодые поэты 1910-х годов, например акмеисты, сталкивались зачастую с теми же проблемами, что и символисты в начале пути, и даже в более острой форме (так как у них не было богатых меценатов). Для «высокой» модернистской литературы, особенно поэзии, «антирыночная» позиция в XX веке отнюдь не являлась архаичной, и это относится не только к России.
А. Ю. А р ь е в. Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование. СПб., «Звезда», 2009, 514 стр. («Русские поэты. Жизнь и судьба».)
Наверное, правильнее было бы назвать эту книгу (представляющую собой уже вторую биографию одного из больших поэтов Серебряного века; первая, написанная В. П. Крейдом, вышла несколько лет назад в серии ЖЗЛ) «Иванов: жизнь в искусстве». Основное внимание биографа уделено профессиональной деятельности поэта, его литературным делам и взаимоотношениям, а не его противоречивой и колоритной личности. Это делает книгу, возможно, менее интересной для массового читателя, зато еще более ценной для специалистов.
Чего стоит хотя бы полный (или практически полный) свод критических отзывов о публикациях Иванова, плод большой и истовой работы исследователя. Единственное, что смущает, — порою чрезмерно эмоциональный и оценочный тон публикаторских комментариев: «Шаблонным — и намеренно шаблонным образом оценил „Розы” Владимир Вейдле. Поклонник Ходасевича (и в угоду ему) <…> занялся самой обычной спекуляцией <…>». И неудобно так писать об одном из лучших русских критиков XX века (впоследствии, как сам же Арьев указывает, Иванова оценившем), и странно выглядит живая полемика с текстами восьмидесятилетней давности. Интересные и парадоксальные сюжеты, связанные со взаимными оценками писателей, были бы, может быть, еще ярче и острее, если бы биограф, щадя своего героя, порою не опускал неприятных для его памяти деталей. Например, того, что «беспрецедентно грубая заметка» о Набокове написана в ответ на неблагоприятный отзыв того о романе Ирины Одоевцевой, жены Иванова (характерное для круга «Чисел» смешение литературы и житейских отношений!); или того, что статья «К юбилею Ходасевича», в которой Ивановым были «окончательно сведены счеты» с главным соперником, была напечатана под псевдонимом, совпадавшим с именем реального писателя (публиковавшегося в одной с Ходасевичем газете)… Поведение другой стороны тоже было далеко не безупречным. Знать все это надо: иначе накал полемики, которую вели между собой парижские русские литераторы, до конца не понятен.
Детали «житейской» биографии, в том числе новые, важные и интересные (чего стоят история гибели отца поэта, который покончил с собой, предварительно застраховав свою жизнь, или подробности пребывания Иванова в кадетском корпусе, или его попытка выехать за границу в 1918 году якобы для воссоединения с первой женой), поневоле оказываются как бы «на полях» творческой жизни, а зачастую опускаются в сноски. Что ж, таков выбор автора, и таков жанр книги. Хотелось бы только (опять же) чуть большей откровенности; попытки иногда немного «пригладить» Иванова оборачиваются несправедливостью в адрес его современников. Бенедикт Лившиц, в «Полутораглазом стрельце» пустивший высокомерно-язвительную стрелу в адрес «Жоржиков Ивановых» и «Жоржиков Адамовичей», не знал, что вышло позднее из этих эстетов. Но автор «Жизни Георгия Иванова» хорошо знает, что Лившиц — большой поэт, ни в чем не предавший своей молодости, и мемуарист более добросовестный, чем сам Иванов. Cтоит ли обвинять его в «разнузданных инсинуациях»? (Кстати, в чем инсинуации? «Греческие вкусы», как деликатно выражается Арьев, молодого Иванова — факт несомненный и общеизвестный.)
Наконец, большой подарок читателю — собрание писем Иванова, приложенное к книге. Особенно хороши поздние письма к Роману Гулю — как психологический документ, источник биографических фактов (нуждающихся, само собой, в проверке) и затекстовой комментарий к тогдашним стихам. Комментарии Арьева, как всегда, подробны и точны.
С е р г е й С т р а т а н о в с к и й. Оживление бубна. М., «Новое Издательство», 2009, 66 стр. («Новая серия».)
Сергей Стратановский, один из ярчайших поэтов ленинградского андеграунда 70 — 80-х, на рубеже 90-х пережил серьезную творческую «мутацию». На смену написанным в гротескно-монументальной «полилогической» манере ранним вещам (в основном и определившим место Стратановского в истории русской поэзии) пришли короткие, эпиграмматически заостренные стихотворения, держащиеся на тончайших движениях интонации. Среди них тоже есть истинно замечательные; но предпоследняя книга, «На реке непрозрачной» (2005), показала, пожалуй, известную исчерпанность этого пути.