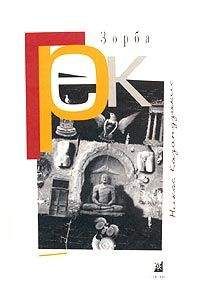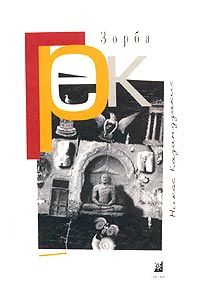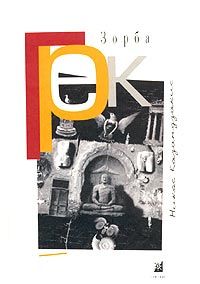Григорий Ряжский - Подмены
Они просили изобразить короткую жанровую сцену, любую, на мой собственный выбор. Мне было всё равно, и потому я начал с привычного и милого сердцу – с собственного деда, с того, как он собирается на лекции. Только сейчас он был не Моисей, а я сам. Начал с того, что с отрешённым видом соорудил на шее у себя бабочку, якобы вывязав сложный узел увеличенной пышности, после чего, осмотрев себя в воображаемом зеркале и одобрительно покивав, мой герой приступил к главному – перекрытию головы жидкими прядями и посадкой кончиков волос на клей с противоположной стороны лысого черепа. Затем – отошёл. И вновь приблизился к зеркалу. И снова, уже окончательно довольный, утвердительно кивнул.
Хотелось плакать, а выходило смешно.
Жизнь продолжалась, и члены экзаменационной комиссии, кажется, это поняли.
И с этим согласились.
Меня приняли.
На этом всё закончилось.
Верней, просто не началось. Ничего. Произошла не более чем подмена. Рукопись Рубинштейна разом изменила меня, одарив талантом всего на час – тем самым, которого не было во мне никогда, который я придумал для себя, прикоснувшись к чужому дару. Дед же, выступив посредником, просто сшиб мне прицел, на какое-то время сделав меня не мной. И наверно, был прав, иначе я и теперь бы ненавидел себя за полную профнепригодность в деле, которое попросту приснилось мне в силу повышенной чувствительности и тяги к прекрасному.
Меня исключили из школы-студии за год до её окончания за неуспеваемость. Лето я провёл в Москве, в печали и размышлениях о собственной никчемности. А в самом начале октября девяносто второго в соответствии с планами Бауманского райвоенкомата я, Гарри Львович Грузинов-Дворкин, был призван в армию, от службы в которой уклоняться не стал.
19
Первый год был по-настоящему тяжёлым: говорю со всей ответственностью, не желая того скрывать. Потом стало легче. К финалу службы я, можно сказать, пообвыкся настолько, что порой ловил себя на мысли о том, что и здесь, бывает, встречаются люди.
Странное дело, жизнь, казалось, налаживалась, но воспоминание, то самое, что медленно, но неизменно усыхало, обращаясь со временем в нечто чужое, почти эфемерное, не принадлежащее больше собственной голове, вдруг вернулось с новой силой. Будто вновь набухла, но уже неродным соком, какая-то важная внутренняя почка. И, набухши, стала давить на чуткий орган, отвечающий за отсутствие любой посторонней бузы в моём крепком организме. Оно было гадким уже изначально, то воспоминание, потому что кровищи было столько, что без принудительного смыва не обошлось. Только не было в тот день воды: как назло, отключили первый этаж казармы – сказали, профилактика труб и узлов. Так оно всё и было, и к тому моменту ещё никто ничего не знал, даже не догадывался, что этот «черпак» Грузинов-Дворкин окажется натуральным врагом армии и православного народа. А били меня именно в тот день, перед отбоем: успели отменно измолотить за неистекший остаток тридцати драгоценных вечерних минут, что даются на подшив воротничка и нежное письмо домой. Я как раз в ту пору очередную границу переходил, только-только миновав рубеж первогодка, «молодого», и уже на вполне законных основаниях зайдя в зону «черпака», – это кто больше года отслужил, но меньше полутора. Вроде и поздно наказывать такого: всё ж не «дух», не «чмо» и тем более не «петух». Ан нет, пришлось-таки совершить действие по совокупности факта неподчинения «деду» и оспариванию непреложности истины. Вызнали-таки, что еврей, хоть только и по мёртвому батьке. До этого всё было ничего, на морду вроде свой, русый, хоть малость и притемнённый. Глаз же, хотя и не чёрный, но вполне себе жгучий, как у цыгана, несмотря что не было вроде к тому никаких специальных добавок, типа не к той нации примыкаю или есть какая-то, как нередко бывает, тайна детдомовского происхождения. Всё честь по чести: «москвач», из культурно образованного дома, хотя сам я этого никак не проявлял: то ли стеснялся немного, то ли нарочно укрывал свою излишнюю образованность от солдатского братства. А с другой стороны, откуда ж там лишнему уму взяться, раз актёр-недоучка, которого к тому же выперли за неуспеваемость и отсутствие любого таланта, да ещё чуть ли не с последнего курса, – видно, настолько бестолочь был в этом деле, что не довели-то самую малость, решили, себе дороже встанет, если выпустят такого на подмостки.
Зато семья моя, полагали они, – нормальная: при пожилом дедушке, отбывающей срок бабульке и бате, почившем до срока, – и, кажется, ещё какое-то пра-пра имеется, то ли родное, то ли двоюродное. И все, к слову сказать, при чисто русских славянских именах, не «гарики» какие-нибудь, как сам. Я же и рассказывал – остальные верили. Кстати, я и щупом владел нормально, когда всем взводом минное поле разминировали перед установкой защитной смертельной электросетки. И мину угадывал чаще других, и с ловкостью её разряжал – всё в норматив. И дизель-генератор электростанции на тридцать пять киловатт на раз запустить мог, когда остальные только репу возле агрегатного пускача чесали да тыркались туда-сюда не по делу. Короче, не раз бывало, что отделение выручал, – за то и терпели, несмотря что выходец из культурного слоя.
Это, вообще, особое устройство головы в целом – верить целиком или вовсе не доверять, когда слушаешь разговор солдата. «Близко к зоне» – говорят те, кто побывал на ней хоть по взросляку, а хоть по малолетке. Враки – не проходят, рано или поздно всё одно правда наружу выберется, и тогда кто накосячил – тому ответ держать беспощадный. Уж хоть один-то на всех в роте или отделении обязательно сыщется, кто пронзительный, кто лгущего-клевещущего на раз вычислит: по неуловимой дрожи века, по кривому больше привычного рту, по деланой полуулыбке, по сопению носом без соплей – да мало ли по чему, если только ты не урка-артист, изначально положивший жизнь на пользу вечного спектакля драмы и комедии.
Так вот, с этого и началось, с развенчания. Просто разговаривали, пока я «деду» в последний раз воротничок пришпиливал, по возможности крупными стежками. Вроде как прощался с собственным первогодством, в котором пришить воротничок старшему есть непреложный солдатский закон. Ну а руки у меня с первого дня службы не из задницы, как выяснилось, росли, про меня все такое знали.
«Дедушка» поначалу просто сопел, пока его обслуживали, молча уставившись в письмо по соседству. Затем, обернувшись ко мне, изрёк:
– Не, ну смотри, всё ж не пойму я. С одной стороны, ты вроде б грузин, ну чисто идя от фамилии, а с другой – аккуратно наш, свой, без никаких. Дворкин – он и есть Дворкин, русак и привет нашим. А Грузинов этот у тебя откуда? От грузин, получается, как иначе-то, Гарь? И имя это твоё, если целиком, – Гарри! Да не просто, а по законному паспорту! Что за имя, спрашивается, каких оно кровей, кто тебе втюхал-то его, за каким хреном?
Я тогда, помнится, чуть смутился, но – накоротке, ещё не ожидая любого подвоха. Однако нюхом своим неокрепшим всё же почуял надвигающуюся неприятность. Что-то пошло не так, отсчитывая от точки непредвиденного вопроса. Успел ещё удивиться про себя, но не зарождающемуся страху, исходившему откуда-то сзади, из незащищенного пространства за спиной; нет – поразился вдруг тому, что страх этот не приходил так долго, что разговор этот ни о чём, начавшийся, в общем, по дурке, по ленивой случайности, не имел места раньше. Что ни один из ротных мудозвонов ни разу не предположил, что не всё уж так безоблачно прозрачно в биографии московского мальчика, призванного отслужить два надёжно «рядовых» года в городе Новозыбкове Брянской области, в первом взводе второй электротехнической роты электризуемых заграждений.
Однако вида я не подал, пожал плечами. Отбился, как мне показалось, без потери мужественности, хотя и с минимальным достоинством. Впрочем, выбора уже не было, зато имелся риск пропасть, совсем. Если б вскрылась малоприятная деталь исконного моего происхождения.
– Ну понимаешь… – протяжно завёл я непривычную для себя песню, лихорадочно встраивая драматургический извив в предстоящее повествование, – Дворкины вообще-то происходят от Деборы. Или Деворы. Она же Двойра, если коротко. Это имя такое библейское, женское.
– Библейское? – искренне удивился «дед». – А при чём тут Библия, они там кто в ней, ваши Деворы-то? Святые, что ли?
И снова надо было реагировать, по возможности обойдясь без очевидной лжи. Что я и попытался сделать.
– Видишь ли, она за справедливость была, уже изначально. Потому что числилась одной из Судей Израилевых. Ну и говорят, что няней у Ревекки тоже была. Заодно. Мне дедушка рассказывал, когда я ещё совсем маленький был.
– Стоп, это какой-такой Ривеки? – озадачился «дед». – Это она чего, жидовочка, что ли, получается? С Израи́ля сама?