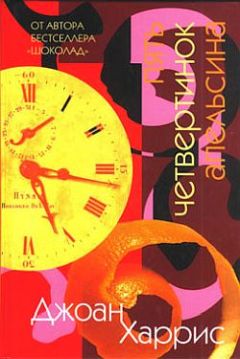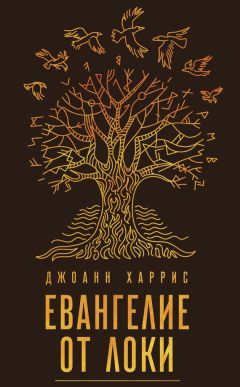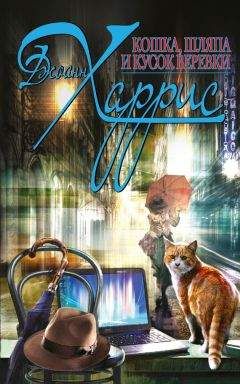Джоанн Харрис - Ежевичное вино
— Это что еще за игры? — Голос Керри пронзительно взмыл. — Джей, что ты творишь?
Он усмехнулся ей в лицо, задыхаясь от смеха.
— А как по-твоему? Вот погоди денек-другой, свяжись с Ники — и перестанешь сомневаться.
— Псих, — рявкнула Керри. — Так я тебе и поверила, что у тебя копий нет. К тому же контракты можно и заменить…
— Конечно, можно. — Он расслабился, улыбаясь. — Но только их никто не заменит. Все это уже не заменишь. А кому нужен писатель, который никогда не пишет? Долго ты сможешь удерживать зрительский интерес ко мне? Чего оно стоит? Чего я без этого стою?
Керри смотрела на него. Мужчина, уехавший полгода назад, стал неузнаваем. Прежний Джей был рассеянным, замкнутым, бесцельным. Новый — энергичным и просветленным. Его глаза сияли. Несмотря на то что он выбрасывал свое детище — глупый, преступный, безумный поступок, — он выглядел счастливым.
— Да ты и правда псих, — натянуто сказала она. — Все выбросил — и ради чего? Просто жест? Это не твое, Джей. Я тебя знаю. Ты еще пожалеешь.
Джей просто смотрел на нее, улыбаясь краешком рта. Терпеливо.
— Больше года ты здесь не протянешь. — Презрение не скрывало, что голос ее дрожит. — Что ты собираешься делать? Ферму держать? У тебя почти не осталось денег. Ты все вбухал в это место. Что ты собираешься делать, когда кончатся деньги?
— Не знаю. — Он говорил весело и равнодушно. — Тебе-то какое дело?
— Никакого!
Он пожал плечами.
— Лучше позвони своей съемочной бригаде и скажи им, чтобы ждали тебя в другом месте, — тихо сказал он. — Здесь нет для тебя историй. Попробуй заглянуть в Ле-Пино, это рукой подать, через реку. Наверняка найдешь что-нибудь вполне оптимистичное и развлекательное.
Она изумленно таращилась на него. На мгновение ей показалось, будто она слышит какой-то запах, странный, живой аромат сахара, и яблок, и ежевичного желе, и дыма. Запах ностальгии, и секунду она почти понимала, отчего Джей так любит это место с его маленькими виноградниками, яблонями и козами, что бродят по болотистым равнинам. На миг она снова стала маленькой девочкой, и бабушка пекла пироги на кухне, и ветер с моря пел в телефонных проводах. Почему-то она понимала, что запах этот — часть его, что запах пропитал его, словно застарелый дым, и пока она смотрела на него, на мгновение он показался ей словно позолоченным, как бы освещенным из-за спины, нити света тянулись из его волос, его одежды. А потом аромат исчез, свет исчез, и не осталось ничего, кроме затхлости непроветренной комнаты да остатков вина на столе. Керри пожала плечами.
— Тебе же хуже, — мрачно сказала она. — Делай, что хочешь.
Он кивнул.
— А передача?
— Поеду в Ле-Пино, — сказала она. — Жорж Клермон растрепал, что там недавно снимали «Клошмерль». Вполне потянет на очерк.
Он улыбнулся.
— Удачи, Керри.
Когда она ушла, он умылся и надел чистые футболку и джинсы. Секунду размышлял, что делать дальше. Даже сейчас уверенности не было. В жизни счастливых концов на всех не хватает. Вокруг дома стояла невероятная тишина. Гудение энергии, что пронизывало стены, умолкло. Испарился и призрачный аромат сахара и дыма. Даже в погребе все утихло; вина — новые вина, сотерны, «Сент-Эмильон» и дюжина молодых «Анжу» — помалкивали. Ждали.
64
В районе полудня Попотта принесла бандероль и вести из деревни. Съемочная бригада так и не приехала, возбужденно сообщила она. Английская леди ни у кого не взяла интервью. Жорж и Люсьен были в ярости. En tout cas[125], пожала она плечами, это, наверное, к лучшему. Все знали, что их планы никогда не осуществляются. Жорж уже заговорил о новом предприятии, каком-то плане застройки в Монтобане, который просто не может провалиться. Ланскне не стоял на месте.
Бандероль отправили из Керби-Монктона. Джей осторожно открыл ее, когда Попотта ушла, развернул жесткие слои коричневой бумаги, развязал шпагат. Бандероль была большой и тяжелой. Когда он снял упаковку, выпал конверт. Он узнал почерк Джо. Внутри оказался листочек выцветшей почтовой бумаги.
Переулок Пог-Хилл, 15 сентября.
Дорогой Джей, прости за спешку. Никогда не умел толком прощаться. Собирался побыть еще немного, но сам понимаешь, какова жизнь. Чертовы доктора ничего не говорят до последней минуты. Думают, если ты старый, то ничего не соображаешь. Посылаю тебе свою коллекцию — думаю, ты знаешь, что с ней делать. Ты должен уже кое-чему научиться к тому моменту, когда это получишь. И смотри, сделай так, чтоб земля им понравилась. Любящий тебя
Джозеф Кокс.Джей перечитал письмо. Он касался слов, написанных черными чернилами старательным некрасивым почерком. Он даже поднес бумагу к лицу, чтобы проверить, не осталось ли на ней частиц Джо — запаха дыма, быть может, или слабого аромата свежей ежевики. Не осталось. Если волшебство и существует, оно где-то не здесь. Потом Джей заглянул в бандероль. Все на месте. Содержимое комода для семян, сотни крошечных конвертиков и фунтиков из газетной бумаги, сухие луковицы, зерна, клубни, растертые в пыль семена, не материальнее, чем дуновение праха, — и все подписано и пронумеровано. Все озарено ароматом иных мест. Tuberosa rubra maritima, tuberosa diabolica, tuberosa panax odorata, тысячи картофелин, кабачков, перцев, моркови, больше трех сотен видов одного только лука — вся коллекция Джо. И конечно, «Особые». Tuberosa rosifea во всей своей красе, истинное пьяблоко, заново открытый предок.
Он долго на них смотрел. Позже он изучит все по отдельности, уложит каждый пакетик в правильный ящичек старого комода для пряностей. Позже у него будет время разобрать, пометить, пронумеровать и занести в каталог, пока последнее семечко вновь не окажется на своем месте. Но сначала он должен сделать кое-что еще. Кое-кого повидать. И кое-что найти. Кое-что в погребе.
Выбора у него не было. Он смахнул знакомую пыль тряпкой со стекла, надеясь, что время не превратило содержимое в уксус. Вино для особого случая, подумал он, последнее из его собственных «Особых» — 1962, хороший был год; первый, надеялся он, из множества хороших лет. Он обернул бутылку в салфетку и положил ее в карман куртки. Мирное подношение.
Когда он пришел, она сидела на кухне и лущила горох. На ней были джинсы и белая блузка навыпуск, солнце играло красным на ее осенних волосах. На улице Роза звала Клопетту.
— Я принес его тебе, — сказал он. — Берег его для особого случая. Я подумал, может, нам выпить его вместе.
Она долго смотрела на него, что в лице — не поймешь. Глаза были прохладны, зелены, оценивали его. Наконец она взяла протянутую бутылку и взглянула на этикетку.