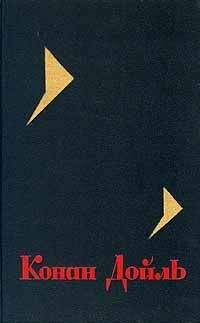Донна Тартт - Щегол
Так вышло, что и в автобусе мы сели рядом — на ближайшие к двери сиденья, места явно не крутые, если судить по тому, как все остальные проталкивались назад, но я раньше никогда не ездил в школу на автобусе, и он, судя по всему, тоже, поскольку явно без задней мысли плюхнулся на первое попавшееся свободное сиденье. Поначалу мы больше молчали, но ехать было долго, и мы в конце концов разговорились. Оказалось, что он тоже живет в Каньоне теней, только еще дальше, на самой окраине, к которой подползала пустыня и где стояла куча недостроенных домов, а на улицах лежал песок.
— Ты давно здесь? — спросил я его. Этот вопрос в моей новой школе все друг другу задавали, будто сроком отсидки интересовались.
— Не знаю. Месяца два, может? — хотя по-английски он говорил достаточно бегло, с сильным австралийским акцентом, в его речи слышались темные, вязкие всплески чего-то еще — душок графа Дракулы или, может, агента КГБ. — А ты откуда?
— Из Нью-Йорка, — ответил я, и наградой мне было то, как он молчаливо окинул меня новым взглядом, как сдвинул брови: круто. — А ты?
Он скорчил рожицу:
— Так, давай считать, — сказал он, откидываясь на сиденье и отсчитывая страны на пальцах, — я жил в России, в Шотландии — круто, наверное, хотя я ничего не помню, в Австралии, Польше, Новой Зеландии, два месяца в Техасе, на Аляске, в Новой Гвинее, Канаде, Саудовской Аравии, Швеции, на Украине…
— Ничего себе.
Он пожал плечами:
— В основном — в Австралии, России и на Украине. В этих трех странах.
— А по-русски говоришь?
Он жестом показал — более-менее.
— По-украински тоже. И по-польски. Хотя много чего забыл уже. Недавно пытался вспомнить, как будет «стрекоза», и не смог.
— Скажи что-нибудь!
Он сказал — горловые, бурлящие звуки.
— И что это значит?
Он фыркнул:
— Пошел ты в жопу.
— Правда? По-русски?
Он рассмеялся, обнажив сероватые и очень неамериканские зубы:
— По-украински.
— Я думал, на Украине говорят по-русски.
— Ну да. Зависит, какая часть Украины. Впрочем, не так уж они отличаются, эти два языка. То есть, — он прищелкивает языком, закатывает глаза, — не слишком сильно. Время по-разному говорят, месяцы, слова кое-какие. На украинском мое имя произносится по-другому, но в Северной Америке его лучше произносить по-русски и быть Борисом, а не Бо-ры-сом. На Западе все знают Бориса Ельцина, — он склонил голову на плечо, — Бориса Беккера…
— Бориса Баденова.
— Кого? — резко переспросил он, повернувшись ко мне так, будто я его оскорбил.
— Ну, Рокки и Бульвинкль? Борис и Наташа?
— Ах, да. Князь Борис! «Война и мир». У меня такое же имя. Хотя у князя Бориса фамилия Друбецкой, не та, которую ты назвал…
— А родной язык у тебя какой? Украинский?
Он пожал плечами:
— Может, польский, — ответил он, откидываясь на сиденье, взмахом головы отбрасывая темные волосы набок. Глаза у него были жесткие, насмешливые, очень черные. — Мать была полькой, из Жешува, это рядом с украинской границей. Русский, украинский — Украина, как ты знаешь, входила в СССР, поэтому я говорю и на том, и на другом. Ну, может, не так много на русском — на нем лучше всего ругаться и материться. Со славянскими языками со всеми так — русский, украинский, польский, чешский даже — знаешь один и типа как во всех ориентируешься. Но сейчас мне проще всего говорить на английском. Раньше было наоборот.
— И как тебе Америка?
— Все так улыбаются — широко! Ну, почти все. Ты не так. По мне, выглядит глупо.
Как и я, он был единственным ребенком. Его отец (украинский гражданин, родился в сибирском Новоаганске) занимался геологоразведочными работами. «Большая важная должность, он ездит по всему миру». Мать Бориса — вторая жена его отца — умерла.
— Моя тоже, — сказал я.
Он пожал плечами:
— Она сто лет как померла, — сказал он. — Была алкашкой. Как-то вечером нажралась, выпала из окна и умерла.
— Ого, — сказал я, слегка опешив от того, как легко он от всего этого отмахнулся.
— Да, херово, — беззаботно подтвердил он, глядя в окно.
— И кто ты тогда по национальности? — спросил я, помолчав немного.
— А?
— Ну, если твоя мать — полька, отец — украинец, а родился ты в Австралии, тогда ты, значит…
— Индонезиец, — закончил он с мрачной улыбкой.
У него были темные, демонические, очень выразительные брови, которыми он постоянно двигал, когда говорил.
— Это почему?
— Ну, в паспорте у меня написано «украинец». И есть еще польское гражданство. Но вернуться я хочу в Индонезию, — сказал Борис, откидывая волосы с глаз. — Точнее — в ПНГ.
— Куда?
— В Папуа — Новую Гвинею. Из всех мест, где я жил, это — самое любимое.
— Новая Гвинея? А я думал, они там скальпы снимают.
— Больше не снимают. Или не везде. Этот браслет оттуда, — сказал он, указывая на одну из черных кожаных полосок у него на запястье. — Его мне сделал мой друг Бами. Он у нас работал поваром.
— И как там живется?
— Неплохо, — сказал он, искоса взглядывая на меня со свойственной ему раздумчивой веселостью. — У меня был попугай. И ручной гусь. И серфить я учился. Но потом, полгода назад, отец утащил меня в эту дыру на Аляске. Полуостров Сьюард, прямо за Полярным кругом. А потом — в середине мая — мы сначала на винтовом самолете перелетели в Фэрбенкс, а потом приехали сюда.
— Ого! — сказал я.
— Там до смерти скучно, — сказал Борис. — Тонны мертвой рыбы и плохой интернет. Надо было сбежать, зря не сбежал, — горько прибавил он.
— И что бы ты делал?
— Остался бы в Новой Гвинее. Жил бы на пляже. Слава богу, мы не были там всю зиму. Пару лет назад мы жили на севере Канады, в Альберте, в городке с одной улицей на реке Пус-Куп. Целыми днями темно, с октября по март, и кроме как читать и слушать радио Си-Би-Эс делать вообще нехер. Белье стирать за пятьдесят километров возили. Но все равно, — рассмеялся он, — в сто раз лучше, чем на Украине. Прям Майами-Бич.
— Так чем там занимается твой отец?
— Пьет в основном, — кисло ответил Борис.
— Тогда ему надо с моим познакомиться.
И снова — внезапный взрывной хохот, будто он сейчас оплюет тебя с ног до головы.
— Да. Гениально. Шлюхи тоже?
— Не удивлюсь, — ответил я после недолгой неприятной паузы. Но хоть отец и не переставал меня поражать, все-таки сложно было представить, как он зависает в придорожных «Сочных девочках» и «Джентльменских клубах», мимо которых мы проезжали. Автобус пустел, до моего дома оставалась всего пара улиц.