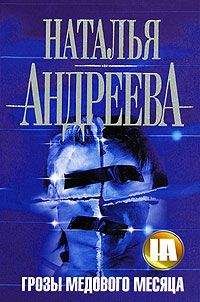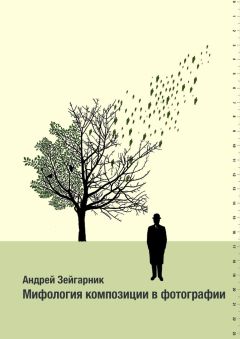Алексей Макушинский - Макс
— Вообще, — он опять улыбнулся, — я кое-что уже слышал о ней… и от Сергея Сергеевича, и от Фридриха, и от… Лизы…
Я же, я помню, весьма часто ходил по этому — третьему, если угодно, бульвару; впервые, кажется, я шел по нему вместе с Максом. Оттуда, сверху (если пройти его до конца…), виден был — нет, не весь, разумеется (да и откуда, хотел бы я знать, можно увидеть его весь, целиком, этот город: огромный, невероятный, таинственный?..) — огромная, опять-таки и тем не менее, часть его видна была сверху, оттуда: и крыши, и улицы, и купола, и тот, первый бульвар (с его бесконечно прямой, в бесконечную даль уходящей аллеей…), и даже тот, второй (загибавшийся…), и даже (в какой-нибудь ясный и солнечный день…): далекие, совсем далекие фрагменты неописуемого: его, Максово, например, решительно неописуемое жилище, возвышавшееся надо всем остальным…
— Так это, значит, та самая пьеса, о которой ты говорил мне когда-то, зимою… помнишь, когда я ночевал у тебя?..
— Конечно, помню. Конечно, та самая.
Но (мы прошли бульвар целиком; я обернулся…) — но была, как сказано, ночь, почти летняя; и там, внизу, были только огни, и какие-то вспышки, и далекие отсветы — сквозь деревья и листья — едва различимые…
— Все это очень странно.
— Очень, очень странно, — сказал я.
— А кстати, — (указывая куда-то рукою…) — вон тот двор, знаешь ли ты его?
— Вон тот, — (всматриваясь…) — Нет; кажется, нет.
— Как, ты не знаешь его? В таком случае мы зайдем туда. Там есть, знаешь ли и как это ни странно, фонтан…
И в самом деле (мы свернули с бульвара; город исчез…): это был, хотя и не очень, но все же, скорее, маленький двор, с тремя, я помню, деревьями, кленами, скамейкой и круглым, посредине, фонтаном. Фонтан не бил в эту ночь; он был полон, однако, водою: и странно, опять-таки, — странно, я помню, в далеком отсвете далеких огней, фонарей, — и двух, я помню, еще, сквозь закрытые шторы, тускло светившихся окон, — блестела, и колебалась, и мгновенными бликами вспыхивала эта вода: почти черная, в глубине, почти прозрачная — сверху…
Он сел на скамейку; я тоже.
— Между прочим, — спросил он вдруг, — видишься ли ты… с Алексеем Ивановичем?
— Да. А что?
— Просто так. Передавай ему привет от меня… если он меня помнит. Тебе не кажется, что… Перов немного похож на него?
— Перов?
— Ну да, Перов… просто Перов, как он сам себя и как все его называют.
— Перов — на Алексея Ивановича?
— Нет, он, конечно, совсем на него не похож. Но какое-то… какое-то есть все-таки сходство.
— Я не знаю. Я никогда не думал об этом.
— Подумай как-нибудь… на досуге.
— Ну а ты-то, Макс, — сказал я, — как ты и что ты?
— А что я? — сказал он. — Вот… занятия… студия… и… сделай то, съезди туда…
— И тебе нравится все это?
— Пожалуй. Сам театр… вот что мне нравится. И если когда-нибудь я действительно буду играть в нем… А впрочем… — он вдруг встал, я помню, подошел к фонтану, заглянул в него, возвратился, закурил сигарету, — а впрочем, все это… никакого значения не имеет.
Молчание, пауза. Одно окно, я помню, погасло, другое, в конце паузы, тоже.
— Да, все это… никакого не имеет значения. Можно играть в театре… можно и не играть в нем. Заниматься в студии… или не заниматься. Мы думаем, это важно, — сказал он… впервые, как я теперь понимаю, заговорив со мной, вообще с кем-нибудь, о своих, отчасти новых, ощущеньях и мыслях. — На самом деле, это неважно. Смотри…
— Да, вот она…
И вправду, покуда мы сидели так, на скамейке, луна, поднявшаяся где-то там, за деревьями, — над крышами и домами, — у нас за спиною, — возникла вдруг перед нами: в фонтане, в воде, — наполовину скрытая ветками, — вдруг, когда ветер отдернул их, вполне круглая, — чуть-чуть колебавшаяся, вместе с водою, — мерцавшая на поверхности, — тихим отблеском проникавшая в глубину.
— Вот так вот, — сказал он.
— И тем не менее… что ты думаешь делать летом? — спросил я.
Он засмеялся, я помню.
— Не знаю, — сказал он. — Мы едем… вообще… на гастроли.
— Куда?
— По разным городам… вокруг Москвы, — сказал он.
— А вот я бы поехал куда-нибудь… к морю.
— Дописывать пьесу?
— Вот именно.
— Если хочешь… я могу созвониться с хозяевами той комнаты, которую я снимал вместе с Фридрихом… в прошлом году.
— Отличная мысль, — сказал я.
— Хорошо, я позвоню им, — сказал он. — Что может быть проще…
И потом мы еще долго сидели, я помню, так, на скамейке, глядя, разумеется, на воду, на луну в воде и над нами, то почти исчезавшую, то опять появляющуюся среди веток, первой листвы, дрожавшую вместе с водою, ясными бликами по ней пробегавшую. И он вновь сказал мне, я помню, что все это, в общем, неважно и что мы слишком много значения придаем, вообще, нашей жизни. На самом деле…
Мы вышли на бульвар; мы поймали такси.
И еще раза два мы встречались с ним, я помню, в театре; и где-то в середине июня, он, Макс, созвонившись, в самом деле, с хозяевами той комнаты, которую снимал он, вместе с Фридрихом, в прошлом году, уехал, действительно, на гастроли, вместе со всем, разумеется, или почти всем театром, по разным, действительно, вокруг Москвы расположенным городам, ему, Максу, дотоле неведомым и вполне поразившим его, как он сам рассказывал мне впоследствии, своей унылой заброшенностью, затаившейся и неподвижной печалью. Но именно там, на гастролях, подменяя Фридриха (отпросившегося и отправившегося на очередные съемки — к другому, в моей истории невозможному морю: откуда, через две недели, возвратился он загорелый, южный, неузнаваемый…) — именно там, на гастролях, подменяя Фридриха, он, Макс, один-единственный раз сыграл его, Фридрихову, не самую главную, как уже говорилось, но все же весьма существенную в системе целого роль — в том, первом, конечно, уже много и много раз упомянутом мною спектакле, — между делом и на всякий случай им, Максом, разученную; справляясь с волнением, не в силах с ним справиться, но все-таки, и даже, по утверждению Сергея Сергеевича, совсем неплохо, во всяком случае, для первого раза, сыграл ее, эту роль: чудесным образом, пускай лишь на сцене, приблизившую его, или так ему показалось, к морским ветром, духами, лиловыми, фиолетовыми, окутанной, окруженной Марии Львовне, медленно, очень медленно шедшей ему навстречу, недосягаемой…
42
И вот так я впервые оказался здесь, почти здесь, у этого моря. Я сошел с электрички на той самой станции (река, скамейки, навес…), на которой он, Макс, сошел некогда с Фридрихом и до которой, как уже говорилось, я доезжаю теперь за два, примерно, часа; я поселился, значит, на той же, самой шумной, центральной, самой курортной, если угодно, улице, в том же — с застекленной верандой и маленькой башенкой — доме, уже отчасти описанном мною; я пил кофе, прежде чем выйти на море, в том же самом, круглом, дощатом павильоне над берегом, где он, Макс, впоследствии — уже скоро: думаю я теперь — должен был встретиться и действительно встретился — с Алексеем Ивановичем: с Алексеем Ивановичем, который, кстати, когда я уезжал из Москвы, сказал мне, что он, Алексей Иванович, прекрасно знает эти места, но что самое лучшее, так он сказал, начинается за курортом (в собственном смысле слова…), если проехать его, пересесть в автобус и ехать просто-напросто дальше, вдоль берега…
— Я бывал там когда-то, — сказал он, — в одной, очень маленькой, притаившейся за дюною деревушке. Поезжайте туда; посмотрите…
Что я и сделал, на второй или на третий день по приезде; менее всего предполагал я, конечно, что я буду сидеть когда-нибудь здесь — вот здесь, вот сейчас — и всматриваясь отсюда, теперь, следить за своим же собственным приближением — на автобусе, в некое, я очень хорошо это помню, прохладное, но солнечное и ясное утро — к этой точке (в которой я сейчас нахожусь…), к этой, очень маленькой, как уже много раз было сказано, притаившейся, как уже много раз говорилось, за дюной, в ту пору, в то лето еще неведомой мне деревушке — до которой, впрочем, я тогда не доехал. Я сошел с автобуса, как я теперь понимаю, примерно в двенадцати, тринадцати километрах отсюда, за две деревни до этой; вышел на берег — после пляжа, курорта совсем пустынным показавшийся мне: там были, я помню, какие-то лодки, вытащенные на песок; какие-то дети, возившиеся у лодок; две девушки, шедшие мне навстречу (одна из них мне улыбнулась; шепнула что-то другой…); и больше никого там, кажется, не было. И я испытывал, наверное, то смутное беспокойство, ту рассеянную тревогу, которую мы почти всегда испытываем в незнакомых, безлюдных местах; и значит, лишь походя, как бы в скобках, не решаясь отдаться ей, отметил про себя пленительную пустынность этого берега, тонкой линией загибавшегося вдали; шум волн, почти сливавшийся с тишиною; далекий очерк отражавшихся в воде облаков… и потом еще очень долго, я помню, часа полтора, может быть, сидел, дожидаясь автобуса, на остановке (тоже: столбик, тоже: скамейка; шоссе, сосны, песок…), вдруг успокоившись, втайне радуясь окружавшей меня неизвестности.