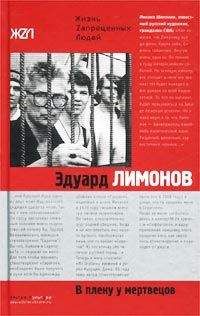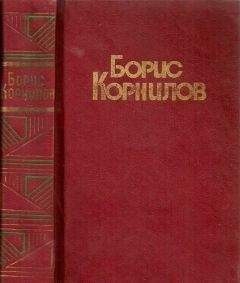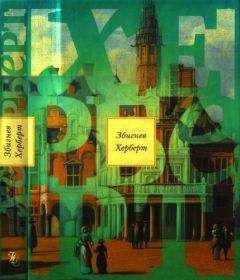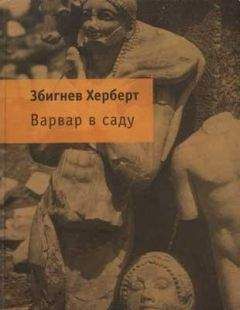Александр Проханов - Рисунки баталиста
– Как вы сказали? Астахова? – Администраторша равнодушно скользнула по его лицу, раскрыла какую-то книгу. – Нет, такой у нас нет. Не числится.
– Вы посмотрели внимательно? – мгновенно тускнея, пугаясь чего-то, переспросил Астахов. – Пожалуйста, посмотрите еще раз!
– Я же вам сказала, нет такой! – Почти оскорбленная его недоверием, дама стала поправлять пенистые белые массы волос.
«Значит, вечерним рейсом…» Он забрал ключи, поднялся к себе, отодвигая, перенося на вечер долгожданную встречу с женой.
Он переоделся в штатское платье, в серый, светлый костюм, завязывая, расправляя на белой рубахе малиновый галстук. Недоверчиво, чему-то усмехаясь, смотрел на свое отражение, одновременно видя себя в полевой, побелевшей от соли, солнца, бесчисленных стирок форме, с зеленым погоном, на котором начинала шелушиться звезда. Этот светлый костюм казался слишком просторным для тела, привыкшего к ремню, к портупее, слишком тонким и марким, требующим осторожных движений. И именно такими, осторожными, почти робкими, были его шаги, повороты головы и туловища, когда шел по ковру к лифту, пропускал вперед пожилую чету, спускался в холл, выходил на широкие ступени перед сверкающим стеклянно-льющимся фасадом гостиницы, мимо которого, как легкие, блистающие пузыри пролетали автомобили. Шли люди, слышался смех, какой-то тучный, жизнелюбивый мужчина окурил его дымом вкусных дорогих сигарет. И Астахову захотелось в этот город, в эту толпу, слиться с ней, стать ею, превратиться в безвестного, беззаботного человека. Убежать от того двойника, что следил за ним издали, одетый в пятнистый маскхалат, с короткоствольным автоматом под мышкой, с жестким, в постоянном напряжении лицом.
* * *Он спустился в метро, окунулся в подземное мерцание и рокот. Смотрел и не мог наглядеться на голубое скольжение составов, на вихри никеля и стекла, на зеркальные плоскости, возникающие среди мраморных арок, на пеструю, казавшуюся легковесной толщу. И зрелище этих струящихся хрупких вагонов, брызгающих огнями на розовые камни, вызывало в нем мучительное наслаждение, легкое жжение в зрачках, привыкших к плитам глухой брони, угрюмо-заостренным конструкциям, к крутящимся в пыли гусеницам.
Он вошел в вагон и стоял, ухватившись за блестящий поручень. Качался среди вспышек, жадно и пристально наблюдая людей, их одежды, столь разнообразные после монотонной серо-зеленой формы, зачехлившей всех подряд – солдат, офицеров. Обычная, будничная городская одежда казалась ему почти демонстрацией мод – женских платьев и юбок, мужских костюмов. Он радовался тому, как красиво одеваются люди.
Час пик отошел. Вагон был полупустой. Он старался угадать, кто они, окружавшие его люди. Та молодая женщина, поставившая у ног большую переполненную сумку, не отпускавшая полукруглые лямки. Видимо, обошла магазины, набрала провизии. Значит, есть у нее дом, есть семья, ждут ее возвращения. Те двое, мужчина и женщина – нет, не муж и жена, скорее сослуживцы, – пересмеиваются, пересказывают какие-нибудь служебные пустяки, какую-нибудь сплетню о комическом, случившемся с начальником казусе. И тот бледный, отечный, больного вида старик, положивший голубоватые руки на рукоять палки, – его выпуклые слезящиеся глаза устремлены в одну точку жалобно и устало. И подвыпивший парень, заснувший с полуоткрытым ртом, уронив на колени большие перепачканные руки. Его кепка то и дело съезжала и падала, и всякий, кто оказывался рядом, поднимал ее и снова нахлобучивал на курчавую растрепанную голову. Он, Астахов, за всеми смотрел, всех их любил, как близких.
Здесь были азиатские и славянские лица. Вглядываясь, он различал смуглых длинноликих узбеков и плотных круглолицых татар, и невысоких скуластых корейцев, и светловолосых голубоглазых русских. Все они, вся толпа, были «своими». От всех исходил направленный к нему чуть заметный, чуть слышный отклик. Почти равнодушное, спокойное отсутствие любопытства. И это было удивительно. От этого было легко. Освобождало от постоянной настороженности – «свой? чужой?» – когда вид чалмы и повязки, долгополой накидки вызывал мгновенную, пусть мимолетную, тревогу. Сейчас было легко не только на душе, но и телу, словно оно опустилось в воду, оставило на берегу часть своей тяжести.
Он вышел из метро не ведая где, и его повлекло, закружило по улицам, перекресткам, словно взяли его под руки и вели, и он наслаждался отсутствием в себе волевых усилий, незнанием путей и маршрутов, бесцельным, как в легком хмелю, кружением.
Очутился в тенистом сквере, где под ртутными, бело-лиловыми фонарями цвели яблони, бил фонтан, моросило, сыпало шуршащей влагой на мокрый гранит. И в легчайшей, сносимой ветром росе, среди брызг и белых цветов, подростки окружили длинноволосого гитариста. Тот красиво засучил рукава, бил гибкими пальцами в струны, и все они пели какую-то свою, незнакомую Астахову песню.
Я подарю тебе тюльпан
И посажу на дельтаплан.
И змей крылатый – два крыла —
Нас унесет в цветной туман…
Он вдруг представил их всех стриженными наголо, стоящими перед ним в тесном строю, с подсумками и оружием, и взводные, пробегая вдоль строя, тихим гневным окриком равняют их пыльные ботинки, одергивают им кителя, и одно его, командира, слово бросит их всех, быстрых, молчаливых и резких, в урчащие транспортеры, направит в зону взрывов и пуль. Он представил их в душной степи, голых по пояс, окруживших гитариста с обгорелым на солнце лицом, их хриплую, негромкую песню, одну из бесчисленных солдатских, сочиненных в Афганистане, передаваемых от «стариков» к «салажатам», гуляющих по гарнизонам и трассам.
Получили данные —
Банда в кишлаке.
Надо бы нежданно
Всех собрать в мешке.
Рядом громыхнуло —
Вроде миномет.
Мина воздохнула,
Это недолет.
С «бэтээра» точно
Стал стрелок стрелять.
На войну похоже —
Надо воевать.
Это жестокое видение вызвало в нем боль и протест – против себя, против своего «военного» зрения, разучившегося видеть мир иначе, чем сквозь прорезь бойницы или в окуляры стереотрубы. Двойник в маскхалате подкрался сзади, вошел в него, стал им. И потребовалось быстро, почти бегом, до частого сердцебиения, выйти из сквера, миновать квартал, пересечь перекресток, нырнуть в подземный переход, чтобы оставить позади двойника, сбить его со следа.
Он думал: какое же счастье выпало ему очутиться в этом весеннем огромном городе, где вот-вот, через час-другой, окажется его Вера. Ее несет, приближает к нему самолет. Они уже чувствуют, уже стремятся друг к другу сквозь сумеречный синий воздух с сияющим в ветвях фонарем.
Он увидел вывеску кафе, услышал за дверью музыку. Толкнул дверь. Замелькало, заходило ходуном. Трубы в оркестре, развеянная в танце юбка, разгоряченные лица, блеск посуды, гомон, смех, звяк.
– У нас закрыто! Спецобслуживание! – швейцар любезно, но твердо преградил ему путь.
Астахов отходил, не огорченный отказом, боясь неосторожной мыслью спугнуть, смутить чужой праздник, понимая, что он не сумел бы отдаться этому легкомысленному забвению. И как бы в подтверждение этому мелькнула мысль: в этот же час точно такие же люди, соотечественники и современники этих танцующих – солдаты вышедшего на задание батальона лежат в остывающей пустыне, следят, как в ночи, пригасив подфарники, чуть заметным пунктиром идут из Ирана машины, и оператор ведет им вслед своей пушкой, и сейчас грянет выстрел, красный взрыв, начнется работа полыхающих в темноте «акаэсов».
И другая мысль – о неравномерном, заложенном в эту жизнь распределении утех и тягот, застольных здравиц и кислой из фляги воды, женских объятий и болевого шока от ворвавшейся в тело пули.
И третья мысль, отрицающая первые две. Затем и вышел батальон в пустыню, чтобы здесь, в этом маленьком кафе, танцевали. Ему, военному, не роптать, а радоваться, что город всем своим многолюдьем, отработав, отгрохотав, теперь отдыхает, веселится в неведении этой напасти.
Он вдруг испугался, что жена уже прилетела, ждет его в гостинице. Невозвратно теряются минутки. Они существуют порознь в этом кратком, отпущенном им для свидания времени. Заторопился, выскочил на проезжую часть, сигналя проезжавшим такси. Одно из них, уже с пассажирами, притормозило. Шофер, спросив куда, подумал и кивнул: садись, мол. Помчались к гостинице.
Двое на заднем сиденье, приутихнув было, продолжили свой яростный разговор:
– Генатулин, прощелыга! На себя одного одеяло тянет! Я ему, стервецу, скажу! Долго, скажу, терпел. Думал, в тебе совесть проснется! Я ведь, скажу, все твои накладные под копирку писал, копии у себя складывал! Я с этими копиями к прокурору пойду! Все, до единой копеечки, выложишь! И дачу, и машину, и телевизор японский! Загремишь по статье! Тогда и про совесть вспомнишь!
– Правильно, иди к прокурору! И про банкеты напомни, и про секретаршу Фаинку!