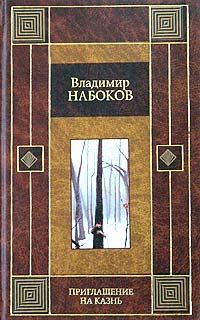Сергей Залыгин - Тропы Алтая
Хотела полюбить Реутского — и возненавидела его…
Возненавидела, и поэтому теперь, когда Реутский заканчивал сборы и вот-вот должен был уехать из отряда, ей обязательно следовало уйти куда-нибудь, не видеть его. Вместо этого Рита думала: «Прежде чем уехать, 0:1 ко мне подойдет и заговорит. А я буду его слушать. Буду. Вдруг поверю каким-то его словам, вдруг он что-то объяснит мне… Чему-то ведь нужно поверить?»
Реутский подошел с продолговатым саквояжем в руке, в широкополой шляпе. За плечами в зеленых чехлах были у него ружья, на ремне — бинокль.
Поглядел ей пристально в глаза, опустил саквояж на землю и, ничего не спрашивая, как будто ни в чем не убеждая, заговорил:
— Я хочу сказать вам, Рита, что вы не вправе обо мне забывать. Никогда! Хотя бы потому, что я никогда не забуду вас. И если через пять, через десять, через двадцать лет кто-нибудь вам скажет, будто я забыл вас, — не верьте! Если когда-нибудь вас постигнут несчастье, разочарование, любые невзгоды и вы вдруг почувствуете, что нуждаетесь во мне, — позовите. Я приду. Что бы мне ни пришлось для этого оставить, чем бы ни пришлось пожертвовать — я приду к вам!
У него были голубые ласковые глаза. Он еще и еще хотел ее убедить, будто бы она ошиблась в нем. А она не ошиблась, она видела его, понимала, и тем страшнее было его желание перешагнуть через все, что она понимала. Во что бы то ни стало он хотел ее заблуждения.
Он говорил неправду и знал, что она знает о его неправде, но говорил.
Его слышала Полина Свиридова — она что-то шила в это время у входа в палатку.
И Реутский хотел, чтобы Свиридова его слышала, чтобы она видела его, когда, повернувшись, он быстро пошел к машине — высокий, стройный и оскорбленный.
Свиридова внимательно смотрела ему вслед.
Запыхтел «газик»; Вершинин-старший, будто он был в чем-то виноват перед Реутским, немного смущенный, попрощался с ним, помахал рукой, и — вот и все! — экспедиция закончилась для Реутского; не оглядываясь, он скрылся за пригорком. Широкополая шляпа была еще видна некоторое время.
А пока Лева Реутский удалялся прочь, Рита думала, что сейчас уходят ее мечты о берегах Черного моря и о теплоходе «Россия»… Плохо, что уходили они только сейчас, не покинули ее давным-давно. И в то же время жалко было эти мечты.
Может быть, она могла призвать к себе свое «это»? Но всегда бывало так: стоило ей упрекнуть себя — и оно исчезало, уходило куда-то, оно было недосягаемо для упреков, и начинало казаться, будто «это» только по ошибке тебе принадлежит.
Нет, все просто и ясно: ей оставалась нелепая и безрадостная жизнь.
Та жизнь, которая неизменно по самому ничтожному поводу жестоко ссорила между собой ее родителей — красивую и злую мать с некрасивым, но добрым отцом…
Которая ограниченную и даже глуповатую тетю «Что такое хорошо…» сделала прямо-таки гениальной по части разных знакомств, особенно тех, о которых ничего не должен был знать тетин муж — самый сильный логик в городе.
Которая погубила Онежку.
Которая только что заставила лгать Реутского, хотя он и знал, что лжет.
Которая заставляет Вершинина-старшего составлять какую-то «Карту», а этой «Карте» не верят ни Лопарев, ни его собственный сын.
Которая делает из добрых людей злодеев, из честных — негодяев, из дружбы — недоразумение, из любви — обман…
Сейчас возьмет и поверит, будто все-все это — все, что у нее осталось. Что по-другому не может быть и не бывает.
Когда-то Рите нравилось изобразить себя ужасной пессимисткой, она не прочь была недолго позавидовать людям отчаявшимся, угадывая в них что-то таинственное, возвышенное и даже героическое.
Но вот отчаяние пришло к ней всерьез: «Поверишь? Или не поверишь? Навсегда?» И откровенная простота мысли, простота, которая раз и навсегда все решала, ужаснула ее. Она должна была такой мысли отказать. А могла ли?
Можно ли раз и навсегда поверить, что ты и в самом деле такая скверная, такая мерзкая, какой представилась себе однажды на скале, на узенькой тропке около самого края пропасти?
Она этого не знала, не чувствовала, потому что чувства покинули ее. Кроме одного: все время было такое ощущение, будто где-то рядом с нею обязательно должен быть Вершинин-младший, будто ей необходима не своя жизнь, в которой уже ничего не было своего, а жизнь его, Андрея.
Любовь?
Когда прежде она влюблялась, когда увлечение настигало ее — всякий раз это было радостью, далекой от каких-то трудных мыслей. Скорее всего — предчувствием еще не изведанного счастья. Потом это проходило, предчувствия не сбывались, она не огорчалась: значит, все самое счастливое предстояло впереди.
Теперь она вполне разумно могла себе объяснить, что за человек Вершинин-младший.
С ним нелегко быть рядом.
Он некрасивый, грубый. Всегда один и тот же глуховатый голос, почти одно и то же выражение лица.
Но он как будто пользовался неограниченным доверием к себе всего окружающего мира — что-то знал о нем и о своей жизни в нем, чем-то очень толково всегда готов был распорядиться. И если все-таки с ним рядом встать — он и тебя этой уверенностью щедро наградит.
Что бы с ним ни случилось, он всегда будет у себя дома среди этих гор и лесов, среди людей и всего того, что отвергло ее — Риту Плонскую. Ему были чужды ее тревоги, ее растерянность, и, должно быть, поэтому рядом с ним она и сама избавилась бы от них.
Зато в его отсутствие она теперь особенно ощущала и свое бессилие, и свою отверженность.
Она умела доверять только себе, но сейчас доверилась бы каждому, кто объяснил бы ей: неужели может быть такая безрадостная любовь?
В лагере было тихо.
Рите казалось, будто она здесь не вся, а только какой-то своей частью, вся же остальная она бродит высоко в горах по узким тропам и никак не может подать оттуда голос.
Изредка появлялся Владимирогорский, привозил из ближайшего поселка молоко, еще кое-какие продукты и нервным фальцетом нарушал тишину этих дней.
Рита подолгу сидела у костра, дожидаясь, когда наконец в палатке уснет Свиридова, или сама забивалась в спальный мешок, едва только начинало смеркаться, и делала вид, что тотчас засыпает. Свиридова обращалась к Рите на «ты», Рита же говорила ей «вы», должно быть потому, что, как бы сурово Рита до сих пор ни судила себя, как бы она ни была равнодушна к людям, какой-то невысказанный приговор Свиридовой внушал ей страх.
Она догадывалась, что у Свиридовой нелегкая женская судьба, и эта судьба давала ей право судить других — ее, Риту Плонскую, прежде всего.
Казалось, что Свиридова знала все жестокие слова — все до одного! — которые Рита в этой же палатке говорила когда-то Онежке… Когда они спорили об Андрее. Когда Онежка жаловалась ей на свои боли.
По ночам было свежо, в холодном воздухе холодно звенели ручьи, луна гасила звезды, а между тем лунный свет совсем почти не касался земли, не проникал в лес, и только вглядываясь в двойное полотнище палатки, можно было различить, что полог с одной стороны едва-едва светлее, чем с другой.
И вот однажды, когда Рита, чуть высунувшись из спального мешка, угадывала, где палатка темнее, а где она светлее, Свиридова вдруг заговорила:
— Ты знаешь, Рита, Лев Реутский совсем не настоящий человек. Тем более не настоящий мужчина. Нет!
Рита притихла, не могла ответить, подать голос…
Свиридову это не остановило:
— Мужчина не сделал бы так… Нет, не сделал бы. Не стал бы прощаться с тобой, как прощался Реутский.
— А как бы сделал мужчина?
— Ушел бы молча. А если бы встретился когда-нибудь очень не скоро, через много-много лет, так не узнал бы тебя первым, чтобы ты решила сама — узнаешь ты его или не узнаешь. — Замолчала… — Тебе нравится Андрюша?
Этот вопрос вот так же, ночью, Рита сама задавала Онежке.
— Не знаю… — ответила она. — Не знаю.
И тогда Полина засмеялась. Очень тихо засмеялась.
— А вам? — спросила Рита.
— Настоящий…
С отъездом Андрея, Лопарева и Рязанцева в лагере как будто меньше стало работы.
Свиридова и Рита делали расчистки, а Вершинин-старший, что-нибудь подсчитав и записав, приходил к ним в лес и без конца говорил о том, что нужно торопиться, что времени остается мало, а предстоит еще большой объем полевых работ.
Он был очень нетерпелив, старший Вершинин, и Рита знала почему: ждал возвращения Андрея.
Как ни было тяжело Рите ждать, она не хотела, не могла делить своего ожидания еще с кем-нибудь, хотя бы и с Вершининым-отцом. Мысленно она обращалась за помощью к Свиридовой, подолгу не спускала с нее глаз, следила за выражением ее немного детского и в то же время очень строгого лица, за быстрыми, даже резкими, движениями ее рук… Иногда она видела только краешек вязаной красной кофточки — но все-таки видела.
Сдержанность этой женщины, которая как будто бы все могла узнать и все понять, по то и дело не хотела ни знать, ни понимать ничего, еще и еще приводила Риту в смятение, она называла Полину жестокой, бессердечной, и это было легче, чем вместе с Вершининым ждать Андрея.