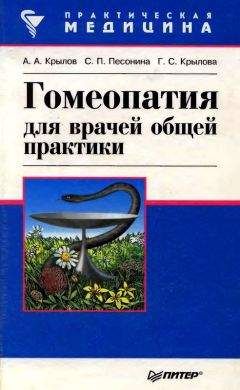Андрей Волос - Предатель
— Я виноват перед вами, наверное…
Марк говорил с таким усилием, будто не сидел у костра, пусть и при звуках недосягающих покамест пуль, а все еще шагал по грудь в снегу, пробивая дорогу саням. Все его лицо выражало какое-то преодоление: может быть, преодоление чувства собственной правоты. Захару подумалось, что, конечно, та история про священника, что был другом отца, которого арестовали и которого Марк с несколькими товарищами пытался отбить у чекистов, — вся эта история выдумана, не было ничего похожего; потому что если бы так, Марк неминуемо был бы когда-то прежде вхож в церковь и, следовательно, не миновал бы регулярной исповеди; а сейчас стало отчетливо ясно, что Рекунин не имел не только привычки каяться, но даже, скорее всего, и подобного опыта.
Захар чувствовал, что Марк Рекунин искренне горюет насчет того, что поход не удался. И что он привел их к смерти. Но дело было не в этом, а в том, что звучало в самой глубине его слов. После расстрела Володи Акульчева Захара не покидало ощущение, что Марк, взяв вооруженную власть и получив присягу на верность от тех, кто помогал ему этой власти добиться, обретя какие-то новые качества, необходимые ему как вождю, утратил что-то столь же важное, что было свойственно ему как человеку. Он и прежде был крут, и прежде способен на решительные шаги, на безоглядные поступки; но это была отвага человека, а не властителя. Казнь Акульчева (Захар не верил до последней секунды и сначала был просто поражен, шокирован, а истинный смысл и значение случившегося понял позже) мгновенно вывела Марка за пределы человеческого, переместила его существование в мир, устройство которого столь же недоступно для простого смертного, как устройство мира ангелов или чертей.
А сейчас он винился, подтверждая тем самым, что возвращается к ним, к людям.
Кружки сошлись.
Говорили мало.
Спирт согрел всего — до последней жилочки, — и Захар окунулся в странное, опустошительное успокоение.
Ночь текла медленно — долгая, вязкая, как слюна приговоренного.
Но он не боялся и не тосковал: пламя мерцало, ветвясь и перетекая, струилось голубизной, на верхушках причудливых языков отдавая в красноту, — и ничего другого не хотелось видеть, ни о чем другом не хотелось думать.
Как будто неизбежное уже случилось: жизнь отхлынула навсегда, унеся с собой страх смерти: чего бояться мертвому?
С усилием отвел взгляд от переливов огня, прислушался к разговору.
— Понимаешь, какая штука, Марк, — хмельно толковал Фима. — Ты не думай, что мы проиграли. Жизнь так устроена: нельзя ни проиграть, ни выиграть. Потому что, даже если жизнь и на самом деле игра, то ты садишься за нее, не зная правил. И выходишь, так и не узнав. Ты, конечно, можешь думать, что вот такая, скажем, ситуация — выигрыш, а, скажем, вот такая — проигрыш. А на самом деле тебе просто всучили билетик… не спросив, хочешь ты его иметь или нет. А билетик такой: чуть вынул его — он и сгорел. И другого не будет. Как же угадать в такой игре? Раз все равно сгорит, то какая разница?.. Но ты пойми: ведь мы благодаря тебе уж сколько дней на свободе! И если умрем — умрем свободными! Разве не это важнее всего?
Марк молчал. Вместо него ответил Шептунов.
— Прямо так расписал, что и жить уже не хочется! — насмешливо сказал он. Пошевелил тлеющей кочергой один из бревешков, выпустив в черноту воздуха несметный рой бордовых пчел. — Смотри, грамотей, какая красота! Вохра небось удивляется: ишь как светят! ничего не боятся!..
А чего бояться? — с усмешкой кивнув его словам, подумал Захар.
Теперь уже бояться нечего.
* * *Третий день мело и выло.
В комнате стоял сумрак. Оконца райотдела, и прежде подслеповатые, белели молочно и тускло: снег залепил почти сплошь, только в самых середках оставались пятаки чистого стекла. А лампочка под потолком висела из тех, что придуманы, чтобы в темноте на них не натыкаться.
Ветер нажал сильнее, дом закряхтел.
«Во задувает, — в который уж раз машинально подумал Губарь. — Хорошо, что успели. По такому бурану в чистом поле… да в лесу… жуть!»
Спотыкающийся стук пишущей машинки окончательно смолк.
— Допечатал? — недовольно спросил Губарь.
В качестве пишбарышни Карячин привел одного из арестованных по делу «Лесорейда», разъяснив, что вообще-то он расконвоированный землемер, командирован из Управления, прибыл на лагпункт за несколько дней до событий и, что важно, тут же слег. То есть, судя по всему, в деле замешан не был, а арестовали его в общем порядке, как прочих.
Насчет болезни правда: не оклемался толком, едва на стуле сидит. Ну и понятно: как сидит, так и по клавишам тяпает. Через силу.
— Допечатал, — кивнул Шегаев.
— Давай, Карячин, читай, — приказал Губарь.
Карячин взял протянутый лист.
— Нападение на районный центр Усть-Усу, — начал читать Карячин примерно так же прерывисто и с такими же запинками, с какими Шегаев печатал, — вооруженными повстанцами было проведено по заранее разработанному плану. Примерно в семнадцать часов тридцать минут восставшими была порвана вся внешняя телефонная связь районного центра. Затем, разбившись на группы, вооруженные и невооруженные повстанцы около восемнадцати часов напали одновременно на здания районного отделения связи и конторы Государственного банка. Окружили помещения районного отделения НКВД и камеры предварительного заключения, а также была окружена казарма охраны Печорского управления речного пароходства.
— Херово ты, товарищ Карячин, читаешь, — вздохнул Губарь. — Ладно. Я вот что думаю. Вернись-ка к началу.
Карячин пошуршал страницами черновиков.
— К самому началу?
— Нет, не к самому. После бани. Что там?
— После бани… после бани, — бормотал Карячин, пролистывая. — Как я сам-то в эту баню не попал…
— А как? — поинтересовался Губарь.
— Как! Чудом! Помылся наспех да на Усть-Усу махнул. А задержись на полчаса, как раз бы угодил. Как раз бы я и попал… как раз бы… вот уж тогда, господи спаси, я бы из этой ба… Ага, вот. Разоружив на вахте стрелка Букреева… это?
— Дальше.
— Так… захватили при этом двенадцать боевых винтовок, четыре револьвера… про патроны еще. Дальше?
— Господи ты святый боже! — Губарь выхватил у Карячина листы и принялся тасовать сам. — Так… так… вот. На.
Снова сел.
— Ну? — спросил Карячин, вглядываясь в лист.
— Я вот о чем думаю… Как-то все слишком просто у нас получается. А?
Карячин пожал плечами, ожидая продолжения.
— Слишком односторонне.
— Гм…
— Надо глубже смотреть, — сказал Губарь и, зажмурившись, механическим голосом заговорил, считывая из-под век то, что будто уже лежало на бумаге: — Первоначальный план повстанцев состоял в том, чтобы выступить одновременно с контингентом лагпункта Пуля-Курья, начальник лагпункта вольнонаемный бывший заключенный Пермяков.
После чего снова открыл глаза и уставился на Карячина.
Не осмыслив еще задумку до конца, Карячин все же не мог не признать, что в любом случае поворот интересный. Появление начлага Пермякова в качестве главаря второго восставшего лагпункта переводит дело из разряда и без того наисерьезнейших в разряд чего-то по своей серьезности совершенно немыслимого, архиважного, сверхчрезвычайного: шутка ли, скоординированное восстание нескольких лагпунктов! Являющееся, несомненно, результатом контрреволюционной деятельности троцкистско-фашистской вражеской сети, распространившей свои щупальца по всему Печорлагу.
— Ага, — протянул он, размышляя. — Так, значит…
С другой стороны, лагпункт Пуля-Курья имеет статус инвалидного. Его калечный контингент вряд ли мог оказать «Лесорейду» сколько-нибудь значительную помощь. Кроме того, из показаний как охранников, так и заключенных явствует, что, когда на Пуля-Курью примчался сбежавший с «Лесорейда» стрелок, Пермяков своим приказом послал пятнадцать вохровцев на Усть-Усу, сам же с тремя оставшимися загнал инвалидов в бараки, отобрал у них обувь и вынес за зону. А на вышки поставил вольнонаемных женщин. То есть, короче говоря, сделал в создавшейся ситуации все, чтобы предотвратить возможные побеги.
Если туфта всплывет, с Карячина первый спрос: что писал?! разве не знал, что инвалиды?!
Но, если разобраться без спешки, как туфта может всплыть?
Он, оперуполномоченный Карячин, ответствен за агентурную работу на двух участках — «Лесорейд» и Пуля-Курья. У Губаря, его начальника, таких карячиных человек восемь: то есть штук двадцать лагпунктов под ним, и обо всех знай. А у его непосредственного руководства — замначальника Печорлага Крупицына — таких губарей, в свою очередь, человек десять. Вот и считай, сколько под Крупицыным всякой всячины: упомнит ли он, что Пуля-Курья — это одна из гулаговских богаделен? Вряд ли. А там, куда от Крупицына бумага пойдет, эту Пуля-Курью и на карте-то не отыщут, не то что разбираться, что к чему…