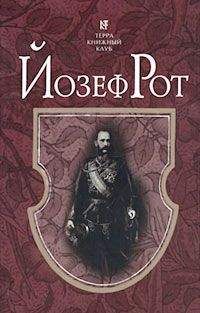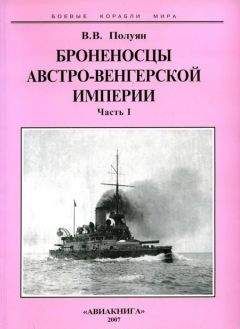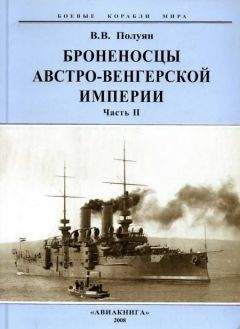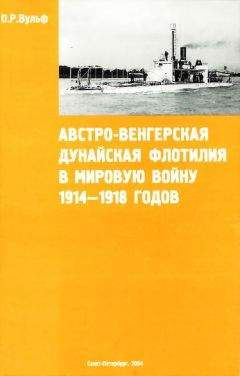Петер Ярош - Тысячелетняя пчела
Они пообещали не забывать друг друга и разошлись. Само по-прежнему трудился на мельнице не покладая рук. И пусть не все, но многое бы шло своим чередом, не вздумай Эма однажды после полудня перешагивать через привод. Стремительно вращающиеся ремни сперва подхватили девочку за юбку, а потом втянули ее целиком — она и охнуть не успела. Пока Само остановил мельницу, привод истерзал хрупкое тело ребенка. Ножиками соскребали ее с железных колес, с ближайших стен, пола. В конце концов и хоронить-то почти было нечего. Убитый горем Само не в силах был даже взвыть. Мария совсем истаяла от слез. Мучительно звучал протяжный детский плач. В какой-то момент в неожиданном приступе злобы Само хотел поджечь мельницу, но товарищи удержали его.
— Боже, если ты есть, будь проклят! — взревел он, подняв лицо к небесам.
— Не богохульствуй! — Мария упала на колени и истово стала молиться.
— Встань! — Само поднял жену. — Там помощи не ищи! — Он указал кверху.
Мария разрыдалась.
— За что жизнь так карает нас? — спросила она сокрушенно.
— Одолеем и это! Прожитого не пережить, прошедшего не воротить. Что делать, надо смириться! — Жену-то он утешал, но, когда оставался один, душа яростно восставала: «Нет, я никогда не примирюсь с этим, до последнего часа буду корить себя!» Почти обезумевши, он убивался, горевал, тосковал по дочке и рыдал навзрыд. Страшная смерть девочки так потрясла его, что он стал испытывать зависть к заботам других. «Да разве может что-нибудь сравниться со смертью моей Эмы!» — терзался он и, когда ненароком на скорбных поминках услыхал разговор Аносты и Козиса, остолбенел от удивления.
— Отдавал я топор наварить, — сказал Козис— Острие хорошее, да топор тяжел стал…
— Ты и обух менял? — спросил Аноста.
— Вот еще! Обух-то прежний.
— Тяжел, говоришь? У меня легкий, обрубный. Твой, должно, двадцать восьмой будет[110].
— Да ты что! — встрепенулся Козис — Двадцать третьи были самые большие, а двадцать первые слишком легкие, а вот двадцать вторые в самый раз: ни легкие, ни тяжелые.
— Двадцать третьи самые большие? Тоже скажешь! Как же так? — удивлялся Аноста.
— А вот так! Палота Возатай торговал ими — и до чего ж хороши были топорики.
— Острие больно широкое было! Не нравились мне, «румынки» лучше. С таким широким острием их разве что плотники покупали.
— Плотники?! — засомневался Козис. — У них-то ведь водились топорики с узким острием, чтоб можно было пятку отсечь. Как плотнику отесать ее широким острием? А узким-то отесывал запросто, а там уж углублял обухом или долотом.
— Долотом? — заудивлялся Аноста. — Такого я и не видывал.
— Ей-пра, долотом! Так часто работают.
— Да ты, должно, ошибаешься… А еще говорят, на все руки мастер!
— Это ты ошибаешься!
— А может, мы оба ошибаемся!
Мужчины обменялись косыми взглядами и повернулись друг к другу спинами. Само опустил голову: «Неужели и меня когда-нибудь будут заботить такие вещи?»
Печаль и скорбь захлестнули его.
На следующий день наведался на мельницу священник Крептух и без околичностей объявил, зачем пожаловал.
— Бог ниспослал вам испытание, Пиханда! — Священник воздел руки. — Вернитесь к нему — вам станет легче, духом воспрянете!
— Уходите! — Само кивнул на дверь. — Справлюсь сам.
11
А справлялись с горем Само и его жена по-своему: оба с головой ушли в работу и хлопоты о все еще немалой семье. Само — похоже было — даже перегибал палку, словно хотел усыпить собственное сознание, приглушить назойливые мысли и всякие сомнения. Изнуренный донельзя, он подчас застывал на миг — задумывался. Мозг сверлили мучительные вопросы: «А имеет ли все это смысл? И для кого я так надрываюсь? Для детей? Ах, дети, дети мои! Один за другим уходят они туда, откуда нет возврата…» И все-таки он старался быстро очувствоваться — не давал печали и сомнениям одолеть себя. И перемогаясь, сжимая зубы, еще ожесточеннее, еще яростней от зари до зари работал в поле и на мельнице. Исхудал, отощал, за несколько месяцев стал кожа да кости. Мария тревожно приглядывалась к нему, а по вечерам, уже в постели, ласково прижимаясь к нему, говорила:
— Надорвешься, Самко, захвораешь!
— Со мной все в порядке!..
— Сейчас, а потом что?
— По-другому я жить не могу, Мария! — отвечал он решительно.
Случалось, на мельницу заходил Ян Аноста. Он тоже заметил, как истаивает Пиханда в работе, и это его немало сердило.
— Во всем надо меру знать, дружище! — отчитывал он его. — Что говорить, твой отец тоже в работе зверь был, но и отдохнуть любил. Я старше тебя — дольше знавал его. Вот уж сколько годков он в земле, а у меня стоит еще печь, которую он сложил тому тридцать лет. Да, умел кладку вести! Дока был! Как-то мы свод возводили — вшестером в один ряд, — так он всегда первым управится и нас поджидает. Напевает отдыхаючи, покамест мы до его уровня не вытянем. Однажды пошли мы покупать в Кокаву поросят, — засмеялся Аноста. — Пешим порядком, конечно! Купили и выпили, как положено. После магарыча вскинули корзины с поросятами на спину — и айда! Но на Волчьей Яме твой отец зачем-то нагнулся, корзина со спины у него свесилась, а поросята — не будь дураки — возьми да и выпрыгни! То-то смеху было! Два часа мы их ловили, хе-хе! Ан опять же посидели, отдохнули… Так что во всем надо меру знать…
— Ты никак поучать меня пришел? — спросил Само.
— Не-а, боже сохрани.
— Мария тебя подослала, так ведь?!
— Выдумки! — запротестовал Аноста. — Не поучать пришел, а просто повидать хотел. Если не соскучишься, могу рассказать кой-какие новости…
— Валяй! — махнул Само рукой. — Только не агитируй!
— Уж я таков, иначе не умею! — засмеялся Аноста. — Хочешь узнать новости, придется потерпеть… Парень ты хороший, известно, да вот жаль, что не взлюбил нас, социал-демократов…
— Опять завелся? — повернулся к нему Само. — При чем тут «невзлюбил»? Неправда… Просто хочется покоя… И своих забот хватает!
— Не гляди только в свою мучницу, в ней одна мука хранится. А кругом — люди. Вкалываешь, надрываешься и думаешь, что, коли кинешь детям пригоршню монет, они будут счастливы. Ан не хлебом единым жив человек. С тех пор как у нас, у словаков, есть своя партия, у нас появилась надежда, что мы вскоре добьемся и своих прав. А не выйдет по-хорошему, вырвем их силой! Мы уже не одиноки. С нами плечом к плечу и чешские социал-демократы. Они поддерживают нас в вопросах политических, национальных и деньгами помогают…
— А я, по-твоему, что должен сделать? — перебил его Само.
— Вернуться к нам, быть с нами…
— Знаешь, Яно, оставь лучше меня в покое!.. — вздохнул Пиханда. — Не могу я двоиться, а то и троиться! Многого ты от меня захотел…
Аноста опечаленио кивнул и пошел прочь.
12
А как-то утром выяснилось, что некому гнать коров на пастьбу. Пастухи Павол Швода, Штефан Пирчик, а вместе с ними и каменщик Матей Шванда ночью подались в Америку.
— Дернули на Польшу! — прошамкал старый Пирчик.
— Откуда вы это знаете? — дивились люди.
— Слыхал, как они столковывались. Эва, как ухо-то у меня выросло — все подслушивал…
Люди поглядели на его уши. И впрямь: правое было в два раза больше левого, на которое он был начисто глух. Оказалось: что ни вечер вострил старый здоровое ухо и вслушивался, о чем эти трое шушукаются в задней горнице. А потом ввалился к ним и, осклабившись беззубым ртом, завопил: «И я с вами!» Но как ни упрашивал — те ни в какую. Старик совсем запечалился, затосковал. «Ладно, отец! Пришлю вам из Америки золотую трубку!» — посулил ему сын, но старого это мало утешило. На следующее утро всех троих как ветром сдуло. А незадолго до ухода Штефан Пирчик попрощался с родителем. «Когда мы будем уже за границей, я покричу вам, — обещал он. — Здоровым ухом вы меня беспременно услышите!»
Соседи чуть свет сбежались к Гите Швандовой.
— Сказывают, муж у тебя умахнул в Америку?
— И говорят, со Шводом и Пирчиком?
Гита Швандова, прижав к себе двух своих дочек, Еву и Гану, лишь печально кивнула.
— Чего ты его отпустила? — попеняли ей женщины.
— Да разве его удержишь?! — вздохнула Гита.
Женщины умолкли и разошлись по домам.
Старый, глуховатый Пирчик изо дня в день, оборотившись лицом к Польше, выстаивал перед домом. Долгие часы вострил он в ту сторону свое растущее ухо, но обещанный сыновний клик все не долетал. А ухо меж тем росло и росло. Наконец сделалось такое огромное, что хоть накройся им, а оно знай растет. Когда выросло так, что заполонило и соседнюю горницу, старый Пирчик отчикнул его ночью бритвой и к утру истек кровью. Чуткие земляки похоронили ухо вместе с Пирчиком в одну могилу и на кресте поместили эпитафию: