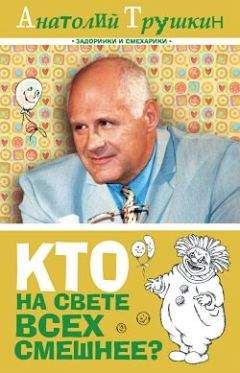Журнал «Новый мир» - Новый Мир. № 3, 2000
В павловском рассказе из «Степной книги» — «Между небом и землей» — солдат глядит на ладони своих рук, они — его. И ничьи больше. Это очень важно: чтобы было отчетливое, «только свое», и не только воспоминание, но и жизнь. Сегодняшние опыты в прозе Олега Павлова выглядят для меня словно бы продвижением от сна к яви. (Это ни в коем случае не скрыто-оценочное суждение, но — стилистическое замечание.) В его «Эпилогии» — ясная и даже легкая языковая ткань, динамичное движение сюжета, отчетливо прописанные детали. Как будто произошла смена психологии наблюдателя. Он перестал быть заложником состояния, он действует и торопится описать происходящее. И замечательно живой вышла история с купленной на дедово наследство пишущей машинкой… Только это получилась иная проза.
«Степная книга», «Казенная сказка», «Дело Матюшина» и даже еще «Школьники» принадлежали тому странному вовлеченному исследователю мертвых зон. «Эпилогия» выглядит для меня стилистическим переходом к иным темам…
Елена ОЗНОБКИНА.Не надо все вслух
Г. А. Балл. Вверх за тишиной. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 240 стр
Случилось так, что имя Георгия Балла наконец попало в обойму: рожденный в годы нэпа писатель получил на тургеневском фестивале премию за лучшую работу в жанре «лирико-повествовательной прозы» (никого уже не удивляет привычная в литературных кругах терминологическая казуистика). Впрочем, определить жанр вызывающе антибеллетристичного письма всегда сложно, что подтверждает и новая книга Балла — удачно составленный сборник произведений разных лет. Те литературоведы века наступающего, что захотят обратиться к его странному творчеству, пойдут, видимо, путем наименьшего сопротивления, извлекая из всего многообразия милый их сердцу корень. Можно даже предвосхитить названия будущих работ: от «Функции пейзажа в реализации метафизической концепции Георгия Балла» до «Белого цвета „Лодки“ Балла» — кому как нравится. Шутка? Едва ли, ибо любые попытки отобразить внутренний мир этого писателя, пользуясь привычной системой координат, заведомо обречены на опрощение.
На эту же мысль наводит и знакомство с изящно сконструированной автором предисловия Евгенией Воробьевой трактовкой мистерии «Лодка», центрального произведения Балла, как книги о Спасителе — так воспринимает она замысловатое повествование о герое, блуждающем между Озерками и Селением, по тусклому царству мертвых и живых, в сопровождении возникающего из Ниоткуда поручика Николаева. Трудно не согласиться: «поражает, насколько точно определен автором жанр произведения». Вместе с тем речение «Врачу, исцелися сам!» и Ченстоховская Божья Матерь вкупе с причудливыми евангельскими аллюзиями отнюдь не исчерпывают загадочный мир «Лодки», неспроста у Воробьевой невзначай проскальзывают отнюдь не библейские мотивы, как-то: «подобно Орфею» и «своего рода Вергилий». Не оттого ли, что происхождение жанра «Лодки» (греческое «mysteri o n») подразумевает не только церковное таинство, но и античную мистерию. Может быть, герой потому «болен», что, подобно Персефоне, вкусил гранатовое зернышко из рук Аида и оттого находит себе место и среди живых, и среди мертвых? Впрочем, «все мы Божественное видим туманно» — каждый по-своему.
Возьму на себя смелость интерпретировать творчество Балла и я, не обойдя конечно же ключевого слова в статьях о современной литературе — «постмодернизм». Странно: куда проще, на мой взгляд, используя классификацию Даниила Хармса (писатели «огненные» и «водяные»), определить Балла в ячейку «водяные», чем в ячейку «постмодернисты». Да, Балл несомненно создает условный и обобщенный образ мира, но там, где у Хармса, коль вспомнил я о нем, тема останавливается у черты: «…вошел он в темный лес… и с той поры исчез», у Георгия Балла повествование только начинается: Карл Давыдович уходил в лес, «становился маленьким». Писателю интересно, что происходит там, за невидимой границей. В мироощущении постмодернизма «корабль уродов» плывет в «страну дураков». Подобная перспектива не устраивает Балла, и корабль, «заросший кустарником», плывет в Вифлеем. Характерная черта — писатель избегает иронического перехлеста. Ему не до шуток; когда он хочет смеяться, на лице его оживает печальная улыбка: несмотря на сюжетные выдумки, проза Балла почти лишена игрового оттенка.
Куда более очевиден символизм Балла. Бесконечная череда наслаивающихся друг на друга знакомых символов (река, стена, зеркало и т. п.), то создающих параллельный системообразующий мир, то отыскивающих непривычное соседство («крылья автобуса» для писателя так же органичны, как «крылья кузнечика»), то образующих длинный смысловой или цветовой ряд, то обескураживающих парадоксальностью математических равенств («жизнь» = «машина», «дорога в Егорьевск» = «лестница в небо»), то играющих многозначностью смыслов («тень от часов»).
«Всё гармония» в фантазиях писателя: «человек-камень», «мужик-дерево», «бабка-лошадь» легко меняют форму существования; свободно перемещаются в воздушном пространстве люди (оставим за кадром шагаловские фигуры — их полет горизонтален, полеты героев книги Балла — вертикальны); реальное и фантастическое образуют некое единое пространство жизни, напоминающее то зыбь, то рябь — бесконечные круги, расходящиеся по зеленовато-мутной поверхности воды, а непрерывно подвывающий ветер, спутник писателя, приобретает смутные черты загадочного поручика Николаева. С порывами ветра проза Балла, утрачивая внешнюю смысловую оболочку, обнаруживает плавно вытекающий из нее «подтекст only»: «Маленький мальчик стоял на перекрестке», — где каждое слово может быть не равно себе.
Когда мерное-мирное течение нарушается, на авансцену выходит другой, не соглашающийся со своей концепцией прозаик Балл — больно расстреливающий читателя очередью коротких фраз: «И планировал. Две недели и три дня. Многовато», — успеть бы, успеть. «Я просто ласточка-береговушка, с радостью полета, стремительно-бесконечной и короткой жизнью» — излучающее свет начало фразы словно растворяется, застигнутое врасплох вторжением иного смысла.
Со времен черно-белой фотографии за словом «негатив» все еще сохраняется оттенок значения: «остающийся в прежнем виде». Палиндромом рождается от него слово витаген (vita + gen) — «происходящий от жизни». Слова взаимоперетекают друг в друга, образуя некое философическое двуединство: негатив — это и то, что было, и то, что остается; витаген — будущее, исшедшее из прошлого. Именно сосуществование «негатива» и «витагена», органичное их сочетание, составляет основную черту прозы Балла, позволяя формулировать обращение в мир иной в согласии с авторской концепцией: герои «соединяются с небом», «множатся, растворяясь в дожде и снеге», «вырываются из шума в тишину», но не умирают. «Старик никак не умел умереть», — находит слова Балл, приподнимая написанное до уровня облаков. Люди, оставляя след на негативе, переходят в витагенное состояние.
Меня не оставляет ощущение, далеко не всякому чтению сопутствующее, что Георгий Балл не может писать иначе. Мир его прозы — это он сам, искренне убежденный, что «есть извечный внутренний свет, проходящий сквозь человека в бесконечность». Но всякий раз, рассуждая о столь серьезном предмете, не решаюсь перейти границу сокровенного и оттого тихо повторяю себе вслед за автором: «Не надо все вслух», не надо все вслух…
Дмитрий ДМИТРИЕВ.Весь день было утро
Юрий Коваль. АУА. Монохроники. Повесть. М., «Подкова», 1999, 464 стр.;
Ю. Коваль. «Я всегда выпадал из общей струи». Экспромт, подготовленный жизнью
Беседу вела И. Скуридина. — «Вопросы литературы», 1998, № 6.
Юрий Коваль (1938–1995) был человек особенный. «А кто не особенный?» — возразят мне и будут правы. Однако Юрий Коваль был особенным особенно, и особо, и обособленно, и особняком. Короче, как говорят теперь — а он эту лексику не жаловал и сердито фыркал, — был он личностью, батюшки-светы, экстракреативной и ультраэксклюзивной. (Юра, прости!)
Широкий читатель при жизни знал Коваля исключительно как детского писателя, а Коваль был «просто писателем» (как и художником, и керамистом, и певцом, и педагогом) мирового масштаба. Так с ним распорядилась цензура и автоцензура: сиди в детской нише, в «Мурзилке» и в «Детгизе», — и не рыпайся. Он сидел, но как еще рыпался — о чем ниже… Интересно, что крестным отцом в прозе у Коваля был Юрий Иосифович (полные тезки) Домбровский, который в 1963 году прочел рассказ двадцатипятилетнего автора, пришел в восторг и понес папку в тогдашний «Новый мир», где рассказ «ласково отклонили». Этот недальновидный возврат глубоко и навеки ранил Коваля (урок «Новому миру» нынешнему) — он незадолго до смерти вспоминал в беседе с Ириной Скуридиной: «Я вдруг понял, что у меня не хватит сил. Если „Новый мир“ даже после рекомендации Домбровского отклонил меня, за что я их до сих пор не хвалю… Я понял, что мне не пробиться никогда. Что бы я ни написал, как бы я ни написал, как бы совершенно я ни написал — не напечатают. Ни за что». И дальше: «С этого момента я понял, что во взрослую литературу я просто не пойду. Там плохо. Там хамски. Там дерутся за место. Там врут. Там убивают. Там не уступят ни за что, не желают нового имени… Понимаешь. Там давят». Как мы видим, у Коваля очень рано возникла мощная обида и фобия, и он сам себя сознательно сузил и укоротил: «Я решил скрыться в детскую литературу, уйти туда».