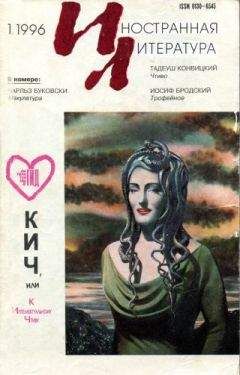Элис Манро (Мунро) - Плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет, своей назовет (сборник)
Затем женский голос продиктовал телефонный номер. После чего раздался гудок, щелчок и тот же голос заговорил вновь:
– До меня вдруг дошло: я же не сказала, кто звонит. Впрочем, вы, наверное, узнали голос. Это Марианна. Все никак не освоюсь с этими техническими новинками. Я хочу сказать, я понимаю, вы человек женатый, то есть я вовсе не в том смысле. Да и я тоже, но иногда сходить куда-нибудь… в этом же ничего страшного нет. Ой, я столько наговорила, а вдруг попала все же не туда? Правда, голос в ответчике вроде был ваш. Если вас мое предложение заинтересовало, можете мне перезвонить, а если нет, то и не беспокойтесь. Просто я подумала, такой случай развеяться вам будет кстати. Это звонит Марианна. Хотя я, кажется, это уже говорила. Ну, ладно тогда. Пока!
Записанный на автоответчик, ее голос отличался от того, что он недавно слышал у нее в доме. В первой части сообщения отличался чуть-чуть, во второй больше. В нем слышалось нервное подрагивание, нарочитая небрежность, желание поскорей все выложить и в то же время продлить контакт.
Что-то с ней произошло. Интересно, когда именно? Если сразу, как она его увидела, то она весьма успешно это скрывала, пока он находился в доме. Нет, скорее, это нашло на нее постепенно, уже после его ухода. Не обязательно он ее как громом поразил. Просто она осознала некую связанную с ним возможность: мужчина со средствами и свободен. Более или менее свободен. И эту возможность она, видимо, решила исследовать.
Но первый шаг дался ей ценой нервного напряжения. Она ведь подставилась, раскрылась. Насколько и действительно ли раскрылась, пока толком сказать нельзя. Обычно женская откровенность по ходу дела со временем нарастает. При первом знакомстве можно сказать лишь одно: если нечто подобное проскользнуло, дальше будет больше.
То, что он вызвал в ней такие движения, ему польстило (к чему отрицать?). Стало приятно, что от него по поверхности ее существа пошла вся эта рябь с поблескиваниями смутных отражений. Что сквозь ее запальчивость и брюзгливость вдруг пробилась эта слабость, просьба.
Он достал яйца и грибы, чтобы сделать себе омлет. Потом подумал-подумал и решил, что можно бы и выпить.
Всякое бывает. Впрочем, так это или нет? – всякое ли бывает? Вот, например, если он захочет, сможет ли он переломить ее, заставить к нему прислушаться и все же отправить Обри назад к Фионе? И не просто навестить разок-другой, а на всю оставшуюся жизнь. Куда эта дрожь в голосе может их привести? К размолвке или к преодолению ее упрямой самозащиты? Может быть, к счастью Фионы?
Да, задачка. Ее решение было бы форменным подвигом. Притом что это анекдот, который даже никому не расскажешь, – подумать только: своим дурным поведением он может сделать Фиону счастливой!
Но додумывать все это до конца он был не способен. Ведь если разбираться дальше, придется вообразить, что будет после того, как он приведет Обри к Фионе. Что будет с ним и Марианной. Нет, это не сработает… Разве что получится под этой ее здоровенькой мякотью нащупать безупречный кремень своекорыстия и извлечь из этого несколько больше удовольствия, чем предвиделось.
Впрочем, никогда не знаешь, каким боком такие вещи могут обернуться. Вроде бы все учел, но полной уверенности быть не может.
Сейчас сидит, наверное, дома, ждет, когда он позвонит. Или не сидит. Пытаясь отвлечься, занимается хозяйством. Похоже, она из тех женщин, которым нужно постоянно быть при деле. Обстановка в ее доме в полный голос говорит о том, что хозяйка она аккуратная. Да и Обри здесь же – за ним по-прежнему приходится смотреть и заботиться, как обычно. Может быть, кормит его сейчас ранним ужином – привязала прием пищи к расписанию кормлений в «Лугозере», чтобы уложить мужа спать пораньше, завершив этим круг обыденных дневных забот. (А что, интересно, она с ним делает, когда отправляется на танцы? Можно ли его оставить одного, или она приглашает сиделку? Говорит ли, куда идет, представляет ли мужу своего кавалера? Может быть, кавалер как раз и платит сиделке?)
А может быть, она уже покормила Обри, пока Грант покупал грибы и ехал домой. И теперь укладывает мужа в постель. При этом каждую минуту помнит о телефоне, а тот молчит. Может быть, рассчитала, сколько времени потребуется Гранту на дорогу к дому. Адрес в телефонной книге дает приблизительное представление о том, где он живет. Можно вычислить, сколько у него уйдет на дорогу, к этому прибавить время на возможный шопинг (что-то ведь ему надо купить на ужин, тем более он одинокий мужчина, а такие покупают еду каждый день). Плюс какое-то время на то, чтобы он добрался до телефона и выслушал ее послания. А если и позже телефон продолжает молчать, она придумает что-нибудь еще. Какие-нибудь еще дела, с которыми ему надо разобраться, прежде чем ехать домой. Да мало ли, может, у него с кем-то встреча, обед в ресторане, и тогда уж домой он не попадет до самой ночи.
И будет она возиться допоздна, намывать дверцы кухонных шкафчиков и, глядя в телевизор, спорить сама с собой, получится или не получится.
Да ну, вообразил о себе! Она в первую голову здравая женщина. Ляжет спать, как обычно, сказав себе, что, по его виду судя, вряд ли он умеет и танцевать-то прилично. Весь зажатый, чопорный – этакий ученый, в дерьме мочённый.
Листая журналы, он продолжал сидеть у телефона, но, когда он опять зазвонил, трубку снимать не стал.
– Грант. Это Марианна. Спускалась сейчас в подвал, загружала белье в сушку и с лестницы услышала телефон, но, пока подымалась, трубку повесили. Вот я и подумала, надо вам сообщить, что я тут. Если это были вы и если вы сейчас дома. Потому что автоответчика у меня нет и вы не могли оставить мне сообщение. Так что я просто хотела… Чтобы вы знали… Пока-пока.
На часах было уже двадцать пять минут одиннадцатого.
Гм. Пока-пока.
Можно, вообще-то, сказать, что он только что вошел в дом. Ибо какой прок в том, чтобы она представляла себе, как он сидит тут, взвешивает про и контра.
Драпировки! Вот же оно – словцо Фионы по поводу тех двухъярусных занавесок: драпировки! В самом деле, почему бы и нет? Ему вспомнились имбирные печенюшки такой правильно-круглой формы, что ей пришлось особо объявлять о том, что они домашние; керамические кофейные чашки на керамическом дереве… Пластиковая дорожка в коридоре, прикрывающая ковер. Во всем точная и доведенная до блеска практичность, которая при всем желании не давалась его матери и которой она, несомненно, восхитилась бы. Не потому ли в нем шевельнулось нечто вроде мимолетного и необъяснимого влечения? Или это следствие двух лишних рюмок, которые он позволил себе выпить после той, первой?
А этот орехового цвета загар (теперь он верил, что это именно загар) – он ведь не только на лице и шее, он, скорей всего, и ниже, в ложбинке между грудей, такой глубокой, немножко, правда, рифленой, но душистой и горяченькой. Это он додумывал, уже набирая номер, который был заранее выписан на бумажку. А додумывая, вспомнил и деловитую чувственность ее кошачьего язычка. И ее нефритовые глаза.
Фиона была в своей комнате, но не в постели. Сидела у раскрытого окна в достаточно теплом, но странно коротком и ярком платье. В окно вливался вольный пьянящий ветер, напитанный ароматами сирени и весеннего навоза, раскиданного по полям.
На коленях открытая книга.
Оторвав взгляд от окна, заговорила:
– Смотри, какую я нашла чудесную книгу, она об Исландии. Вот не ожидала, что здесь в комнатах могут просто так валяться дорогие книги. Люди, которые сюда попадают, не обязательно такие уж честные. И знаешь, по-моему, они тут всю одежду перепутали. Я ведь никогда не носила желтого.
– Фиона… – вымолвил он.
– Как ты давно не приезжал. А с выпиской ты все уже оформил?
– Фиона, у меня для тебя сюрприз. Ты помнишь Обри?
Она уставилась на него с таким выражением, будто ей в лицо дует сильный ветер. Продувает насквозь – лицо, голову, разрывая там все в клочья.
– На имена у меня совсем памяти нет, – резко сказала она.
Затем ее лицо успокоилось; вновь, хотя и не без усилий, приняло любезное и благодушное выражение. Она осторожно отложила книгу, встала, подняла руки и заключила его в объятия. От ее кожи и дыхания исходил еле заметный новый душок, напомнивший ему запах, который издают срезанные цветы, слишком долго простоявшие в воде.
– Как я рада тебя видеть! – сказала она, дергая его за уши. – А ведь ты запросто мог исчезнуть, – продолжала она. – Сесть за руль, и поминай как звали. Позабыть, позабросить. Ну, признайся! Подзабываивал меня уже, подзабросивал? Подзабросывал. Подзабрасывал.
Он прижимался лицом к ее седым волосам, к просвечивающей сквозь волосы розовой коже, к ее прекрасной лепки черепу. И говорил, что ты, что ты, ни в коем случае.
Примечания