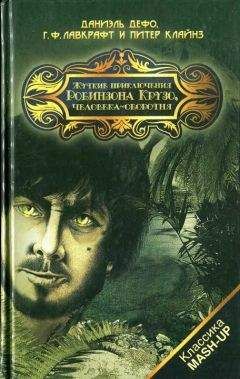Лутц Зайлер - Крузо
Кораблекрушение, салют! Две форточки, салют! Судомойня, салют!
Салют! Салют!
Он понял. Это был сигнал.
Все может погибать.
Воскресение
Девятое ноября. Он обслуживал в ресторанном зале, не через форточки, они остались закрыты. Кое-как навел порядок, протопил печь, сварил кофе. Делал все это медленно, одно за другим, каждое движение по отдельности. Кое-как состряпал солянку, с серым хлебом. Некоторые части тела с трудом возвращались из шокового оцепенения к обычной деятельности, поэтому он переходил от буфетной стойки к столам и обратно не вполне устойчиво, скованно. Что-то внутри шагало с ним заодно, использовало его глаза и уши, участвовало во всем, что он делал, что-то, с чем сейчас необходимо обращаться очень бережно, по-хорошему.
Посетителей в первый день было семеро. Тихие, молчаливые поклонники острова, одиночки, согревавшие ладони о чашки с кофе и сквозь грубую сетчатую гардину смотревшие на террасу, меж тем как Эд мыл чашки и бокалы или неподвижно стоял за стойкой, возле открытого крана. Тихое журчание воды успокаивало, вдобавок легкое хлюпанье и посвистывание маленького водопада в сливе. Если кто-нибудь все же к нему обращался, Эд отвечал: «Точно!» или «Почему бы нет?», словно и он находится в гуще жизни. Как-то раз он даже на миг все забыл и представил себя начальником в ресторане; ревизия из Берлин-Швайневайде, может, они вообще не явятся…
Последней посетительницей была молодая женщина, спросившая о Крузо, в точности так, как недели назад спрашивали о короле острова десятки потерпевших крушение. Очень маленькая, с длинными каштановыми волосами, мокрыми от дождя. На секунду-другую Эд увидел ее в своей комнате, ее волосы на своей подушке. Потом решительно сослался на конец сезона. Ноябрь – конец любого сезона, подчеркнул он, причем без надобности.
Кричать на маленькую женщину опять же не было надобности. Он ведь не Рембо. Его боль, его печаль… все утраты. Он устыдился. Подумал о последней потерпевшей крушение в своей комнате, о женщине по имени Б., которая ночевала у него до Дня острова, Дня парада, Дня начала конца. Ей было как минимум сорок, а может, и больше. Почти с каждой фразой Б. выдыхала дым, курила без остановки. Она сказала, что больше не желает быть девчонкой на побегушках, но, с другой стороны, эта роль вовсе не так плоха. Она говорила и цитировала Лёша: «Отринутые и ценные люди. Просветленные и мракобесы». В ней сквозило что-то пренебрежительное, и теперь она норовила пренебречь всем и вся. Эд спал на полу, Б. – в кровати. Она спала, просыпалась, говорила, курила и снова засыпала. В конце концов Эду померещилось, будто он ощущает прокуренный рот Б. Даже в темноте он различал ее узкий нос с горбинкой и длинную прямую шею, почти без перехода к затылку, словно затылка вообще нет, лишь бесконечно длинная шея, все время нашептывающая: «Положи свою руку туда, попробуй же потрогать ладонью». Б. смеялась над Крузо. Называла его «монархом, князем и господином острова». Называла его и старьевщиком и сравнивала распределение с последним автобусом до дому, только вот никто не мог уточнить, где он, этот дом. Пансионат свободы? Приют для потерянных душ? Вот так она без умолку болтала, выпуская дым. Все для нее было как игра, как интермеццо. Она говорила, что не намерена делать украшения, и отказывалась от священного супа. Говорила: «Я суп не буду», – и смеялась. У нее были свои способы захмелеть, без алхимии, а вдобавок священный суп воняет дерьмом. Это обижало Эда, хотя он не мог не согласиться, что суп пахнет скверно. Эд считал Б. безутешной. Двенадцать лет замужем, три месяца в разводе. По ее инициативе, говорила она. В день развода она не могла спать, от волнения и радости. Они остались в добрых отношениях, говорила она, встречались, время от времени. Эд уже совершенно оцепенел от усталости, оцепенел. Двенадцать лет. Муж у нее ревнивец, но уже кого-то себе присмотрел. Поскольку танцевала она всегда с восторженным упоением, ее частенько считали сумасшедшей, особенно на заводских рождественских праздниках. Но она вовсе не сумасшедшая, ни капельки, только вот вперед не продвигается. А теперь ничего другого вообще не остается. Здесь она ничего не забыла. Здесь один только этот остров. Последнее место.
Вечером Эд запер все наружные двери и задернул шторы. Жирным карандашом кока Мике написал на куске картона и засунул в окошко для напитков:
ЗАКРЫТО ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ ПЕРСОНАЛА.Вход на черную лестницу он забаррикадировал гладильной доской Моники.
Больше никого не осталось.
Он прошел к себе в комнату, собрал вещи и отнес все вниз, в контору Кромбаха, где отныне собирался ночевать, в облаке «Экслепена», в сердце «Отшельника». Дверь на кухню открыл и застопорил, дверь в каморку закрывать не стал, а значит, и ночью мог свободно обозреть несколько метров пространства.
Я видел, как ты пришел. Так сказал Крузо в тот вечер на пляже, после крещения сезов, незадолго до поцелуя – он был всего лишь сном, сном другого человека. Пятницей, которого Крузо, снедаемый тоской, увидел во сне.
Постель пахла потом. Он свернулся калачиком, уставился в темноту. Он был всего лишь сном. Только вот теперь спящего увезли прочь, и, стало быть, Эд уже не мог реально существовать.
Наутро его разбудили голоса. Когда он вошел в ресторан, они умолкли, но во время завтрака послышались вновь. Шли они от фотографий давних команд. И страха не внушали. Ни угроз, ни оскорблений, простые, добрые советы вроде: «Не делай глупостей, малыш!» (справа, с самого верху, год толком не разглядишь, возможно 1930-й), или «Смывайся-ка отсюда, слышь» (1977), или «Позаботься, наконец, о “Виоле”, старик» (1984). Кажется, это сказал покойный повар, которому некогда принадлежала «Виола». Высокий малый в ослепительно белой куртке, на фотографии он стоял с левого края и пока знать не знал, что скоро утонет. Впрочем, теперь уже успел узнать, думал Эд, видел все позднейшие команды, а теперь видел и Эда, последнего из 1989 года, не позаботившегося о его приемнике.
Эд намазал себе ломоть серого хлеба, они много его заморозили. Время булочек миновало. Намазал он его, кромсая пятикилограммовый брусок фруктового мармелада, которого хватит на три-четыре зимы. Продовольствие не составляло для него проблемы, с этим все в порядке. Он мог продержаться здесь сколь угодно долго. Сдержать обещание.
Сидел он опять на своем прежнем месте. Придвинул на место стола для персонала другой стол, расставил стулья. Двенадцать стульев, а команда из одного человека. Помещение, полное отсутствия.
Он отнес посуду в судомойню, прошептал в раковину несколько строк. «Мой добрый Крузо. Мой милый Лёш».
Вспомнился список дел, которые надо сделать. Казахи стащили книжку кассовых чеков. Нет, вон они, лежат за спиной на подоконнике, а рядом аккуратненько шариковая ручка и пепельница. Добрые казахи. Эд прочитал список, но это оказался не список. И не его. Хотя почерк его. Он прочитал. Три листочка кассовых чеков, записи в манере Крузо, но не его. Он прочитал.
Вернулся в судомойню, пустил воду. Принес тарелки, столовый прибор и стаканы и начал водить руками по дну раковины. «Добрый. Милый».
Немного погодя он вытер руки «римлянином» и принес из своей комнаты большой блокнот. Рассматривал бледно-голубой квадрат страниц. Блокнот лежал наискосок, наполовину у Кромбаха, наполовину у Моники. Он поворачивает его туда-сюда, то к Кавалло, то к коку Мике и, наконец, к себе.
Смотрите, это подарок Г.
Он полистал от конца к началу, провел ладонью по давним записям, погладил их. Погладил Г. Теперь он мог просто думать о ней. Мог чувствовать размокшими кончиками пальцев следы шариковой ручки, впечатавшиеся в грубую, волокнистую бумагу. Она ушла, он так буквально и думал, ушла. И при этом видел ее короткие быстрые шаги, через рельсы. Оторвал от пачки три исписанных листка, аккуратно спрятал их между страницами. «Ты умеешь перенять мой тон».
Никого не осталось. Эд встал, надел тельманку, впервые после приезда снова надел ее, ведь стало холодно. Убедился, что за дверьми и во дворе никого нет, никаких странников, не готовых уважать его табличку о закрытии. Сейчас он походил на хуторянина, полного подозрений. Резкий ветер ударил в лицо. Помедлив, он зашагал по тропинке к лестнице на обрыве.
Ходьба шла ему на пользу. По мере спуска гул усиливался, прибой грохотал, послышался какой-то визг, сперва тихий, потом громче, то накатывающий, то отступающий свист, словно снаряды генерала свернули на круговую орбиту. Бутылки Крузо, подумал Эд. Это они пищат. Пищат в кротовьи норы.
Потом мысли куда-то подевались, он только шел и шел. Тронул рукой висок, не то стараясь что-то вспомнить, не то здороваясь с морем давним, уже почти забытым манером. Бесконечный гул – теперь он беспрепятственно проникал в него, стремился стереть ему память. «Мы ша-га-ем по берегу моря, до сол-неч-но-го за-ка-та…» Мать, отец и Эд-ребенок между ними, их светлые, сияющие лица и шаг в ногу по песку рюгенского Гёрена – единственное воспоминание, возникшее ему в помощь.