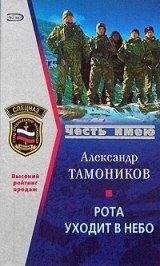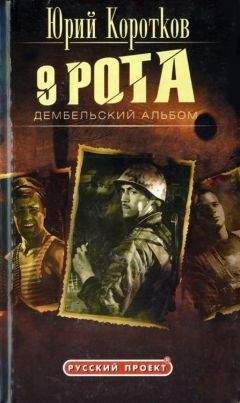Вячеслав Дегтев - Последний парад
— На подъезде к хутору увидели впереди «КамАЗ» с железной будкой. — Кто это? — стали вопрошать бесперечь. Вроде в прошлом году никто на такой машине не приезжал. Кто-то бросил: наверное, Федя Бирюков свое потомство везет, больше некому. У него детей — только на «КамАЗе» и возить.
— Странно, — сказала грудастая Алка, смотрясь в зеркало, — в детстве такой недотепа был. Такой тихоня… — добавила она с восхищенным презрением.
— Вот по-тихому и настрогал — целый воз. Точнее — «КамАЗ»! — гоготнул Славуня Лупач, совсем не блюдя свой авторитет областного начальника. — За всех за нас отдал долг перед родиной. — И деловито оглядел присутствующих: у Алки ни мужа, ни детей, сама — мужик в юбке, у Сахуна один сын Рома, и тот из пивных не вылезает уж лет пятнадцать, у Бурдейного дочь Вика десять лет живет с мужем, но детей, видно, уже не будет — «для себя» живут. У самого же Славуни где-то, будто бы, есть ребенок, но, как поговаривали, не совсем здоровый (слишком бурную молодость папа провел), и потому о детях с ним разговоры не заводят, — как в доме повешенного о веревке…
Они преследовали «КамАЗ», гнались, стараясь узнать, действительно ли Федя? Шофер у Славуни был — оторви! — но догнать не удавалось. Поля поворачивались, будто театральная сцена, кружил коршун с белыми подмышками, по обочинам плотной стеной стояли пыльные бурьяны, на дальних меловых взлобках крутояров, где стлался выгоревший ковыль, желтели столбики байбаков. Это была родина, это была земля отцов, политая кровью и потом, как это ни банально, — и эта земля была кинутой… В низине, перед мостом через заросшую кугой речку Потудань, машины остановились, сгрудившись кучей. Народ стал вылезать — было человек пятьдесят, — и отходить в сторону, туда где копанка-криница, — там из меловой кручи бил голубой, пахнущий стеклом ключ Бурчак. Вода в нем — ледяная. Набирали во фляги и бидоны. Пили и не могли напиться. Это был вкус родины. Запах детства. Сколько ж их предков пили из Бурчака? Сколько судеб связано с этим родником?..
Возвращались назад к машинам — счастливые, взбодренные. Переговаривались оживленно — о воде, которую можно пить до бесконечности, как пиво все равно, о детстве, о милой юности, о том, что тогда все были разуты-раздеты, но жизнь била ключом. У всех — надежды, перспективы, планы. Вера, что родились не зря. Что нужны стране и родителям. В каждом дворе — по целому выводку детворы. Все выросли! И что не зря в древности проклинали не самого человека, а его потомство. И бесплодие считалось самым страшным Божьим наказанием. Да, да, — кивали собеседники, нация вымирает не от плохой медицины — от слабого потомства. Как только люди теряют интерес к жизни — к жизни ради самой жизни! — пиши пропало. Взять, к примеру, сербов и албанцев в Косово…
Да, прав тот, кто сильнее, кивали собеседники, рассаживаясь по машинам. Попробовали бы американцы поддержать албанских сепаратистов при Сталине… С этим согласился даже историк, поморщившись (видно, не любил он отца народов): сильнее тот этнос, — добавил, — какой моложе.
— И который не избалован комфортом, — встрял молчавший до того отчаюга-шофер. — Вот Китай, например. С ним всегда считались, какие бы кризисы там ни происходили… Поэтому ваш Федя, — кивнул он в сторону ушедшего «КамАЗа», — молодец. Именно его потомки и будут жить после нас. Все помрем, и вы, и я, и окажется, в конце концов, что человек ценен только тем, что останется после него. Дом. Дети. Сад. Корабль. Или книга на худой конец, — взгляд в сторону публициста.
Все молча рассаживались в автобусе, избегая смотреть друг другу в глаза. Все друг про друга все знали. Карьера, деньги — съели людей…
— В Америке со временем будут жить негры, — сказал шофер, запуская двигатель. — А у нас — узкоглазые брюнеты. Россияне…
— Да, да, — закивали смущенно. Автобус дернулся и помчался по брошенной ими земле. На задних сидениях погромыхивала стела… Через полчаса завиднелись дубы, под которыми все они бегали когда-то босикaми, гоняли из-под дубов свиней, которые любили собирать там желуди. Увидели давешний «КамАЗ» — из железной будки вылезали дети, весело хохоча. Повсюду лежал сваленный кирпич, лес, пачки шифера. Стояли несколько трейлеров и армейских палаток, вокруг которых развевалось на ветру белье. Всюду сновали какие-то люди.
Кто такие? Откуда? Что тут делают?
Как выяснилось, переселенцы. Несколько семей. Председатель сельсовета, оказавшийся тут по случаю ежегодно съезда хуторян, Геня Шмыков, которого в детстве дразнили «Шнырой», объяснил: беженцы с Кавказа, сами выбрали это место. Думают к зиме отстроиться. Вот, детей в школу возят на «КамАЗе»…
Настроение испортилось. Бывшие хуторяне уныло бродили среди чужих трейлеров и палаток. Было ясно: в последний раз… Больше сюда не приедут и никогда уж не соберутся они, разбросанные по обширной стране. И стела оказалась не нужна. Тем более, место, где ее думали ставить, было занято: там лежали блоки, кирпичи. Несколько смуглых бородатых мужчин расчищали древний фундамент из дикого камня, на котором когда-то стоял клуб, а до того — церковь.
— Почему именно это место выбрали? — интересовались у землекопов.
— А зачем в селе тесниться? Тут простор. Воля. Жить можно, как привыкли.
Бывшие хуторяне переглянулись со Шнырой, представлявшим местную власть, и по выражению его лица было видно, что он предвидит все прелести такого компактного проживания, и скоро хлебнет этих прелестей по самое некуда… Но Геня лишь развел руками.
— Да и хорошо тут у вас. Тихо, — продолжил носатый землекоп. — Не то что у нас, — неопределенно махнул рукой и показал на «КамАЗ», где еще не успели покрыться ржавчиной рваные пулевые дыры. — А на фундаменте мечеть поставим. Место отличное — далеко видно…
Уезжали с родного пепелища, как с похорон. Впору было выкапывать и увозить покойников. На задних сидениях дребезжала стела. Все молчали. Лишь историк бормотал что-то о Куликовской битве, которая произошла в аккурат на Рождество Богородицы, но никто уже его не слушал. Подъехав к Бурчаку, остановились на мосту через смиренную речушку Потудань. Публицист хотел было напомнить, что и речка описана-увековечена, но от него отмахнулись. Шофер взял стелу и бросил ее с моста в трясину, прорвав ряску. Стела булькнула — и будто не было ее.
— Вишь, что творится! — пробормотал Сахун. — И такое — по всей России. Что же нам, русским, — покосился в сторону Фрунзика Иосифовича, — делать? А, мужички?
Все молчали. Даже всезнающий историк, хоть и покрылся обиженно пятнами. Видно, недаром злые языки говорили, что среди историков он публицист, а среди публицистов — нацмен…
— Что-что? — бросил через плечо шофер, злобно взглянув на Алку, которая, косясь в зеркало, наводила красоту, — размножаться! Плодитесь и размножайтесь, сказано, занимайте землю и владейте ею. У меня их четверо, гавриков. Всех по дедам назвал. Вырастут! А у вас?
Все опять смолчали. Но каждый про себя подумал, что надо бы Славуне уволить этого умника, которого зовут — Иван.
АУТОДАФЕ (Плач)
Подвергнуть кого-либо публичному позору и даже сожжению — это еще не значит доказать свою правоту.
Макиавелли.
Крестный мой горделивый, бильярдно-лысый и медленно усыхающий, давно уж передает-намекает: пусть бы, дескать, крестник написал о хуторе нашем родимом. В некотором роде — увековечил бы и прославил. А я все откладывал да отмахивался: ужО еще! Пока не съездил на родину. И вот, земляки милые, единокровцы незабвенные, извольте убедиться: прославляю и в некотором роде увековечиваю. Хотя и не без смешанных, горьких чувств.
Мне казалось в последнее время, что вокруг меня все еще легкий утренний сон развевается, как прихотливый розовый туманец, клубящийся, отплывающий, подобно мареву, — а то проходит, проплывает, истончается мимотекущая, мимолетная, почти мгновенная жизнь моя ненаглядная, проистекает неумолимо, и все мимо, мимо, как вода из горсти, просыпается, провеивается, как песок в часах, чах-чах, чах-чах, улетает, как ветер духовитый, духмяный, сквозь седую тополиную листву струящийся… И вот уж сорок мне годков, и на родине милой не бывал лет эдак двадцать пять с гаком.
И вот собрался и поехал.
Приехал, оглянулся окрест, —
И душа моя содрогнулась.
И я горько-горько заплакал.
Глубоко в душе.
Я восплачу-воспою, дорогой читатель, не о глянцевой заграничной экзотике, воспою-восславлю не «сладкую парочку» и не «Пепси», которое кто-то где-то выбирает, я поведу речь о смиренной нашей, сирой и убогой, а теперь еще и вечно пиано-пьяной родине милой, о далеком, серо тлеющем под нещедрым солнцем вымирающем хуторе, который давно уж позабыт Богом нашим православным, да и неправославными богами позабыт тоже… Я знаю, дорогой, как занят ты собою, любимым, и тебе, мимоидущему, мимобегущему, конечно же нет никакого дела до какого-то там далекого, безвестного поселения отнюдь негородского типа, — но это моя родина, слышь, братан, серая, неказистая, и вечно похмельная, лохматая, непричесанная, и потому я попытаюсь все же пропеть о ней достойно и, если уж не возвышенно, то хотя бы без унижения, и постараюсь, уважаемый, чтоб тебе, пресыщенному, не сделалось бы скучно.