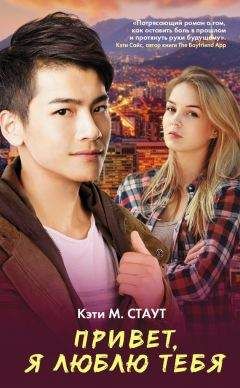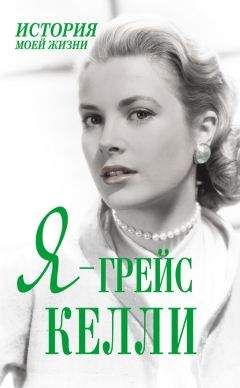Человек случайностей - Мердок Айрис
Р.».
«Дорогой Эндрю!
По причине, которую в скором времени объясню, возвращаю чек. Я передумал продавать тебе Кьеркегора. Я, может быть, и деловой человек, но не обманщик. И особенно не в том контексте, о котором с некоторых пор подозреваю. Могу ли я зайти к тебе в Оксфорде в четверг? Можно будет переночевать в колледже? Мне надо кое-что тебе сказать.
Оливер».
«Уважаемый мистер Гибсон Грей!
Я Вам невероятно благодарна, что Вы провели столько времени возле бедного Нормана на прошедшей неделе, он тоже Вам очень благодарен, Вы столько для него сделали, он даже не понимает! Я считаю, что Ваше внимание очень ему помогло. Он чувствует себя гораздо бодрее, и кажется, будто все время старается что-то важное вспомнить. Скоро он выписывается из больницы и возвращается домой. В больнице говорят, что сможет выздороветь, ну хотя бы настолько, чтобы выполнять какую-нибудь несложную работу. Из социальной помощи все к нему очень тепло относятся и обещают организовать для него какой-то курс, приучающий к ремеслу. Это большая перемена в нашей жизни. Покажется странным, но после всего, что произошло, он стал куда добрее. Удалось бы напечатать его роман, как Вы считаете? Деньги бы нам не помешали. Еще раз благодарю Вас за помощь, оказанную моему мужу.
Искренне преданная, Мэри Монкли».
«Энни, милая!
Докладываю тебе, что эти подозрительные шашни между мной и Ричардом завершились навсегда. Собственно, мои намерения и не шли далеко, все из-за этой яхты! Флирт с Р. преследовал чисто макиавеллевскую цель (надеюсь, я не переборщила). Не считаю также, что Ричард строил какие-то планы, в этом я могу поклясться! Все получилось очень глупо. Я чувствовала, что должна тут же написать тебе и сообщить, что побережье вновь свободно. Ты повела себя великолепно, ты девчонка-не-промах!
Все еще сижу в деревне и намереваюсь тут остаться. Ни с кем не вижусь. Уже не работаю машинисткой. Эта работа была ужасна. Свинки значительно лучше. Помни, у нас двери для тебя всегда открыты. Папа по-прежнему в тебя влюблен и присоединяется к приглашению. Спасибо Творцу за женскую дружбу. Часто думаю, что все тепло, весь смысл жизни исходит от женщин. Напиши о своих планах.
С большой любовью.
Карен».
«Дорогой Оливер!
Спасибо за возвращение чека. Хорошо, приезжай в четверг. В гостинице мест нет, но сможешь остановиться у меня. До встречи.
Эндрю».
«Дорогой Себастьян!
Спасибо за письмо. Разумеется, с радостью встречусь с тобой. Я тоже очень ценю нашу дружбу. Сколько ни иметь приятелей среди мужчин, ты всегда будешь занимать самое почетное место. К сожалению, у меня сейчас много дел и поэтому не смогу выбраться на ленч в среду. Но в пятницу найдется свободная минута. Сообщи мне открыткой – где и когда.
Твоя Карен».
«Дорогой Ричард!
Несколько слов просто так, без всякого повода: почему бы нам не устроить ленч вдвоем, выпить чего-нибудь? Мы же с тобой старые друзья, столько лет знакомы. Мне кажется, я тебя не видела целую вечность, только на вечеринках. Как-нибудь утром позвоню.
Обнимаю.
Энн».
«Мой дорогой отец!
Меня начинает охватывать отчаяние из-за того, что мы никак не можем понять друг друга. Я не «отлыниваю от дела, прячась в Европе». Оказывается, если принять во внимание всю ситуацию, мои взгляды, мой характер и способности, то решение остаться не только соответствует моим интересам, но и становится моим долгом. Возможно, у меня не получилось объяснить убедительно. Не говорю о Грейс, потому что не она в этом деле главный аргумент «за». Но и без нее остался бы. Прошу, поверь, что это именно так. Ты пишешь, что стремление к добру предполагает абсолютный альтруизм, а не расчет. Но ведь абсолютный альтруизм не в том заключается, чтобы слепо отдаться водовороту судьбы. Если бы я считал такое самоуничтожение своей обязанностью, так бы и сделал. Но я придерживаюсь иного мнения. Принесение такой жертвы было бы, я считаю, чистой воды мазохизмом или проявлением глупого истерического страха перед ярлыками «труса» и «дезертира». Распоряжаться собой надлежит, только опираясь на взвешивание всех «за» и «против», потому что каждый человек имеет собственную душу, а у души свои пути. Я очень глубоко и серьезно обдумал свою дорогу, и мне на этот счет нечего добавить. То, что ты предлагаешь в постскриптуме, я воспринимаю лишь как доказательство твоего излишнего волнения. Ни на секунду не допускаю, что ты это серьезно. Твоя «суровость» мне намного предпочтительней. Давно знаком с твоим мнением о психиатрах. Мне претит само предположение обратиться за помощью именно к ним, так же, как симуляция психической болезни, в то время как при взгляде на меня каждый скажет, что я совершенно здоров.
Что касается Грейс, то твои упреки бесполезны. Вы ее не знаете лично и, если не пересечете океан – о чем вас прошу, – так и не узнаете. Мы любим друг друга, и мы оба знаем – уверяю вас, – что брак заключают на всю жизнь. Мы решили и не передумаем. Очень вас прошу, очень: приезжайте на свадьбу. Оставьте мысль, что удастся меня переубедить. В этих обстоятельствах, чтобы не стать друг другу чужими, а для меня эта мысль невыносима, кто-то должен уступить, но не я. Прошу прощения, поцелуй маму.
Твой любящий сын Людвиг».
Шарлотта открыла глаза. Она ощущала боль. Сознание, теряющееся в водовороте звуков, старалось сориентироваться в настоящем, восстановить связь с прошлым… Шея и плечи чем-то обвязаны. Она лежит на кровати, под грубым одеялом, укрытая до самого подбородка. Светит солнце. В поле зрения находится что-то ослепительно белое. Солнце светит мучительно ярко, и ей самой так плохо… Она закрыла глаза. В горле спазм и еще где-то глубоко – дурнота. Голова болит. Она боролась сама с собой, стараясь прояснить память.
Снова открыла глаза. Солнце прямо в лицо. Она присмотрелась и увидела рядом еще одну кровать. Комната похожа на спальню в школьном интернате. Какое ужасное сходство. Нет, это больница. Ряд кроватей, какая-то молодая женщина в голубом переднике и белом чепчике, несомненно, нянечка. Она вспомнила, что приняла таблетки, десять таблеток, двадцать, даже больше. Почему же до сих пор жива? Она слегка пошевелилась, чтобы убедиться. Руки, лицо – слушаются. Жива. Эта мысль, удивительная и пугающая, заставила учащенно задышать. Ею вдруг овладел страх перед смертью, которой почему-то избежала. Она ведь искренне хотела умереть. Пробуждение принесло двойной ужас – и перед жизнью, и перед смертью.
– Смотрите, приходит в себя, я же говорила! Сестра, смотрите, она очнулась!
Нянечка неожиданно приблизилась и стала великаншей. Рыжие волосы, курносый нос, чем-то знакома.
– Вот и хорошо. Как мы себя чувствуем? Вы меня помните?
Шарлотта ничего не помнила, кроме интернатской спальни, таблеток, страха, а сейчас еще и сестры Махоуни и матери, глядящей одним глазом в тот момент, когда она, Шарлотта, просила укоротить уколом муки страждущей.
– Меня зовут Роза Махоуни. Я присматривала за вашей матерью. Помните?
– Да. – Значит, и голос вернулся.
– Все в порядке, ничего не бойтесь. Вы еще легко отделались. Сейчас прошу только об одном – лежите спокойно, врач придет, а вы лежите и слушайтесь.
– Как удивительно, что вы смотрели и за ее матерью, – донесся чей-то голос.
Солнце било Шарлотте в глаза, мешая смотреть. Она закрыла глаза и вновь задремала, блуждая мыслью в разных направлениях. Поднималась и опускалась на каких-то волнах, руки-мысли, ноги-мысли выдвигались, как щупальца. Зачем она приняла таблетки? Какая невыносимая печаль довела ее до этого? Память постепенно возвращалась, шаг за шагом приходила в себя. Мэтью. Оживили, подлатали, и теперь она готова к новым мучениям. Снова те же самые страдания. Слезы.