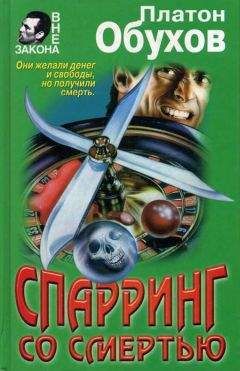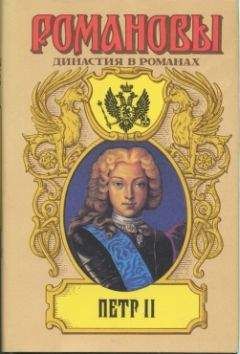Петр Проскурин - Отречение
— Что за чушь! — слабенько выкрикнула окончательно обессилевшая хозяйка. — Откуда такая уверенность?
— А я говорю — сын! Я знаю!
Не выпуская инициативы, Петя провел старушку, ослабевшую от чрезмерных перегрузок, в комнату, придерживая за сухонькие плечи, и бережно усадил, предложив согреть чаю; привыкшая всю жизнь ухаживать за другими и не замечать себя, она окончательно расстроилась, размякла и расклеилась, по ее словам, пришла в совершеннейшую негодность. Намереваясь разрядить обстановку, чрезмерно наэлектризованную, для дальнейшего необходимого разговора, которую сама же и создала, она немного поплакала, посморкалась в платок, затем, взглянув в зеркало, покачала головой, тронула себя под глазами и стала хлопотать вокруг Пети, предлагая ему поужинать и выпить чаю, а он все пытался выбрать момент и откровенно спросить об Оле; он даже вновь начал сердиться на старушку, отчего она по-прежнему молчит и ничего не хочет ему сказать, не так ведь трудно было и догадаться, каково у него на душе. Но и сама Анна Михайловна, отлично зная, чего ждет Петя, не могла сказать ничего определенного; она уже много раз выговаривала себе за свою несдержанность, распущенность, как она сама определяла свое поведение, и совершенно не знала, как же вести себя дальше, о чем теперь говорить с этим молодцом с мрачно горящими черными глазищами, которому она неизвестно зачем на свою голову позвонила, тем более что племянница строго-настрого запретила ей. И дальше они вели себя каждый сообразно со своей тревогой: хозяйка усиленно старалась обратить внимание гостя на банку малинового варенья, собственноручно приготовленного еще прошлым летом во время недельного гостеванья у старой подруги на даче, с добавлением листьев вишни и цветов липы, а он то и дело старался перевести разговор на старую, еще дошкольную фотографию Оли, висевшую в черной резной рамке на стене, но Анна Михайловна всякий раз пренебрежительно говорила, что работа неудачная и не стоит на ней задерживаться. Время шло, и он уже подумывал встать и распрощаться, и как раз в это время раздался, шум в прихожей, послышались веселые, оживленные голоса, и Анна Михайловна, тревожно взглянув на Петю, стремительно встала и вышла из комнаты, оставив дверь открытой. У Пети в груди заныло и что-то черное, бархатистое, жаркое плеснулось перед глазами; он встал, проклиная себя за медлительность, шагнул было к двери, но тут же отошел к окну. Оля кого-то уговаривала остаться и выпить чаю, и молодой, сильный мужской баритон, от которого у Пети все сразу же стало на дыбы, благодарил; что-то робко и невпопад сказала Анна Михайловна, и Петя, старавшийся удержать на губах легкую улыбку, увидел вначале Олю, затем мужчину лет тридцати, чуть пониже себя, с пышной соломенной шевелюрой. По лицу Анны Михайловны Петя тотчас понял, что и для нее появление племянницы с неизвестным светлоголовым, светлоглазым улыбающимся кавалером полнейшая неожиданность и что она попала в незавидное положение.
— О-о! — сказала Оля совершенно чужим голосом. — У нас гости… Здравствуйте, Петр Тихонович… Знакомьтесь, Виталий, это старый тетин знакомый, Петр Тихонович Брюханов, они давно дружат… А это Виталий Эдуардович Аксенов… доктор паук, уже нашумел, из края в край исколесил матушку Азию, — закончила Оля с нарочитой торжественностью в голосе, отступила на шаг в сторону, словно стремясь несколько иронически оценить дело рук своих; мужчины же, обменявшись взглядами, безошибочно почувствовав друг в друге соперника, быстро, стремясь поскорее завершить неприятную им и ненужную церемонию, пожали руки. Виталий сказал при этом: «Очень приятно», а Петя, лишь слегка кивнув, вновь отступил к окну, на выбранную для наблюдения позицию. У него от пришедшей определенности даже настроение улучшилось: вот все и разъяснилось, говорил он себе с облегчением, как все просто и обычно. Не надо искать никаких причин и не надо ничего объяснять; и мать не виновата, наоборот, надо перед ней извиниться; случилось то, что и должно было случиться. Появился весь вон какой удивительно соломенный, обожженный пустынями Виталий — и круг замкнулся. Высокие материи и категории кончились, налицо перспективный доктор наук, а с него, с интеллектуального путаника и бродяги, что возьмешь? И Лукаш здесь, надо думать, ни при чем, так уж сложилось, и некий мифический ребенок, так встревоживший нервную Анну Михайловну, скорее всего плод ее расстроенного воображения…
С любопытством наблюдая за поднявшимися хлопотами, Петя успокоился, вернее, убедил себя в своем равнодушии к происходящему; стоять дальше, когда уже все сидели, было неудобно и неловко, и он незаметно пристроился на диване; Оля же, занятая исключительно доктором наук, только на него и глядела, только с ним и разговаривала, но Анна Михайловна, выбрав момент, когда племянница накладывала Виталию в блюдечко знаменитое малиновое варенье с вишневым листом и липовым цветом и о чем-то тихо говорила ему, оказавшись рядом с Петей, тоже понизила голос почти до трагического шепота:
— Если вы сейчас уйдете, я перестану вас уважать! Навсегда! Будьте мужчиной и борцом!
И хотя глаза у старушки блестели, верный признак близившегося взрыва, Петя, теперь уже сам призывая ее смириться с неизбежным, благодарно улыбнулся ей; он уже твердо решил через минуту встать, попрощаться и навсегда забыть сюда дорогу, но Оля, ничего сейчас не упускавшая, оставила доктора наук и, глядя в их сторону, засмеялась:
— Тетя, тетя, ты, верно, совсем заговорила Петра Тихоновича, а ему и домой пора, у него такая гора дел и обязанностей… Ты не забыла?
— Ольга! — негодующе сказала Анна Михайловна. — Я попрошу тебя не лезть в чужие дела! Это, по крайней мере, неэтично!
— Тетя, что ты, зачем же эти ложные приличия? Ведь Петр Тихонович и в самом деле, кажется, умирает со скуки…
— Тебе кажется! Ты, милая племянница, перекрестись! — не осталась в долгу Анна Михайловна, и Петя, еще раз оскорбленный откровенным и грубым желанием отделаться от него поскорее, забывая о только что принятом решении, к торжеству старушки, заявил, что он, пожалуй, еще выпьет чашку чая, и пересел ближе к столу.
Удачно, сверх ожидания, завершив в Москве свои дела, Петя до своего, несмотря на категорические возражения Аленки, возвращения в Хабаровск, успел даже съездить за племянником к деду на кордон; сделал он это весьма неохотно, хотя Дениса он любил и был сильно привязан к нему; в обратной дороге он много и с удовольствием рассказывал заметно окрепшему за лето мальчику о дальневосточной тайге и реках, о наводнениях на Амуре. Когда Аленка подхватила потяжелевшего за лето на дедовских харчах внука на руки и закружила его по комнате, Петя с облегчением занялся другими делами и вскоре ушел; в глубине души он побаивался своего племянника и с трудом выдерживал его какой-то особенно пристальный, прямой взгляд. Сразу помолодевшая Аленка, забросив на время свои выкладки и схемы (она возглавляла спецгруппу, работающую по заданию института над таблицами контрольных данных городской наркологической службы), принялась деятельно готовить Дениса к школе и внимательно к нему присматривалась, пытаясь понять, что за изменения произошли в характере мальчика за два месяца пребывания на кордоне. Несомненно он физически окреп, поздоровел, заметно вытянулся; из пухлощекого, рыхлого горожанина превратился в загорелого крепыша с густо исцарапанными руками и ногами. Внук наотрез отказался, например, чтобы она, как раньше, собственноручно купала его; непривычно, сумрачно, совсем по-брюхановски нахмурившись, он заявил ей, что уже не маленький и вымоется сам, без ее помощи. В ответ Аленка затормошила внука; он отчаянно отбивался от ее ласк и, получив наконец свободу, принялся неторопливо, обстоятельно, как и все, что он теперь делал после возвращения от деда, затачивать разноцветные карандаши подаренной ему в числе других сокровищ черно-белой, овальной, в форме пингвина точилкой. Взбивая мусс и одновременно поглядывая на подходившее тесто для беляшей (она решила полакомить внука его любимыми кушаньями), — Аленка с удовольствием слушала рассказы про кордон, про белое-белое поле и про Дика и думала о своем; она старалась никогда не вспоминать своего сумасшествия, время своего разрыва с Брюхановым и ухода к другому, когда дочь на какое-то время осталась фактически без отца и без матери, на руках доброй, но недалекой старухи — Тимофеевны, без конца причитавшей над девочкой о ее несчастной сиротской судьбе; вот когда, пожалуй, и обозначилась самая первая трещина, ведь мужчина может простить женщине измену, а ребенок матери предательство не прощает никогда; здесь срабатывают какие-то иные, неведомые и непредсказуемые биологические силы и связи. Много ли у нее оставалось времени для детей от работы, от мужа, от ее многочисленных общественных нагрузок, от желания нравиться, а главное, пробиться выше, доказать какую-то свою исключительность? Кому доказать? И кто возьмется взвесить весомость сделанного ею, кроме нее самой? Куда пойдут стрелки? Надо честно и бесстрашно — самой себе в глаза… С другой стороны, сколько людей она поставила на ноги, вернула им радость в жизни… Именно, именно… вот утешение и оправдание, делала одно, упускала другое, просмотрела души двух самых близких существ, потому что не смогла, не сумела отдать принадлежащее им по праву естества — всю себя без остатка, все свои помыслы… За все в жизни приходится платить, но такая плата слишком непосильна, она чувствует, что еще чуть-чуть — и не выдержит, надломится.