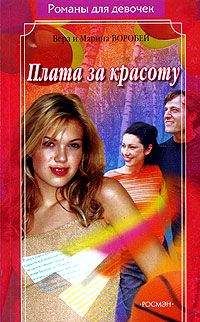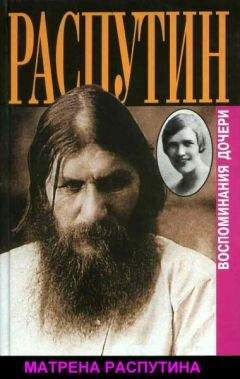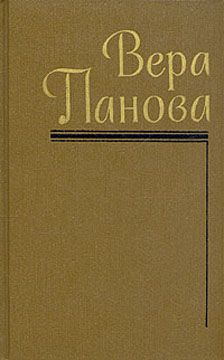Михаил Елизаров - Библиотекарь
Один из осадивших меня копейщиков вздрогнул сокрушенным хребтом. Молот Иевлева отбросил второго. Третий копейщик обернулся и побежал прочь. Но испуг этот был направлен отнюдь не в сторону Иевлева и его губительного молота.
Открывшаяся картина окончательно вышвырнула меня из яви. В проломе частокола чудовищным фантастичным виденьем возникла исполинская баба. На ней был грязно-оранжевый жилет, надетый поверх безразмерной вязаной кофты, похожей на закопченную стекловату, и синие штаны, заправленные в сапоги. Раздувшиеся носорожьи плечи покрывал цветастый платок. Отечно-краснолицая, с выпавшими из-под каски локонами желто-курчавой химии, напоминающей свалявшуюся овчину, баба волокла на длинном ржаво-скрипучем тросе огромный крюк. Могучая рука несколькими взмахами раскрутила исполинский кистень до такой скорости, что трос слился с воздушной колеблющейся рябью, а крюк приобрел прозрачность.
Помраченным умом я не сразу понял, что в роковые минуты мне воочию предстала легендарная воительница клана Моховой, грозный мифологический реликт громовского мира – Ольга Данкевич. Попирая слоновьими ногами трупы, она шла в неприступном трехметровом радиусе своего кистеня, высвистывающего то мертвые петли, то восьмерки.
Я видел бледный ужас, внезапно поразивший штурмовиков. Они прильнули спинами к частоколу, чтобы их по ошибке не приняли за врагов.
Марат Андреевич примерил в ладони тяжелые вилы, метнул в Данкевич. Но еще раньше у гудящего пропеллера появился крен. Крюк пронесся в метре над землей, взметнул песок, невидимый трос лучше всякого щита легко отбил словно потерявшие тяжесть вилы и зашвырнул за частокол. Следующий оборот крюка подхватил Дежнева, закружил, как спутник на орбите, и с костяным хрустом впечатал в бревенчатый угол скита. У Марата Андреевича ртом хлынула кровь, а глаза застыли открытыми.
Двумя ювелирными витками кистеня Данкевич сначала вышибла у Кручины штык, превратив сжимавшую оружие кисть в лохмотья, потом расплющила пожарную каску. Игорь Валерьевич, точно его окатили из ведра кровью, упал. Данкевич перехватила свободной рукой трос, ловко перевела кистень в плоскость вертикали. Крюк врыл уже поверженного Кручину в песчаный грунт, оставив труп и глубокую воронку.
Закричал от гнева и боли Иевлев. Из пронзенной груди змеей выползал широкий, длинный, как меч, наконечник рогатины, просадившей Николая Тарасовича со спины. Он опустился на колени, уперся в землю руками и острием.
Одинокий, скованный черным отчаянием, я видел моих погибших товарищей и десятки побитых ими врагов. Читальня истекла кровью, и я, как истинный библиотекарь, покидал ее последним.
Выставив клевец, я ступил под сень центробежной смерти. Невидимый трос со свистом стриг воздух над шлемом. Данкевич вдруг улыбнулась железнозубым ртом. Сиплый водочный голос подзывал: «Иди», «Не трону», – звучали похожие на ветер кокетливые слова: «Ближе, маленький», «Стань под титеху», «Уведу…».
Я ждал, когда вслед за раскалывающим ударом обрушится темнота, но трос взмывал надо мной все выше…
Воинский долг и преданность подняли умирающего Иевлева. В несколько стремительных шагов он приблизился к Данкевич, как подкравшийся пылкий любовник, прижался к ней, так что погубившее его острие полностью погрузилось в тучное бабье мясо.
Данкевич покачнулась, пьяную улыбку сменила недоуменная гримаса. Она отрыгнула слюну, чуть окрашенную пурпуром. Рука с крюком осталась воздетой, но трос опадал, с каждым витком уменьшая радиус кистеня. Данкевич тяжело, по-бульдожьи дышала, кровь текла с жирного подбородка, капала на жилет. Трос остановился, крюк зарылся в песок. Два сросшихся туловища грузно рухнули. Николай Тарасович к этому моменту умер, так и не узнав, что победил Данкевич.
ЯВЛЕНИЕ ГОРН
Я вдруг испытал приступ иррационального страха, будто каким-то непостижимым образом в горячке сражения не заметил, что давно убит. Происходило непонятное. И не то чтобы я перестал существовать для врагов, просто они смотрели без хищной алчности, словно уже заполучили вожделенную Книгу. Я на всякий случай коснулся холодной крышки футляра – Книга была при мне. И стоял я на обеих ногах, и даже не был сколько-нибудь серьезно поврежден. Никто не пробовал разоружить меня. Я был отчужден, как объект табу. Все поведение недавнего противника было вынесено за скобки боя, и, может, поэтому я понял, что штурм действительно позади. Ярость обернулась мутной усталостью и равнодушием, я лишь созерцал полную мук и крови суету, памятную еще с первой сатисфакции.
Подворье превратилось в настоящую свалку мертвецов. Стонали раненые. Их было много, с порубленными конечностями, обезображенными лицами, кто ворочался на земле, кто, обезумевший, ползая на коленях, прикрывал затылок руками. Выжившие бойцы хлопотали над увечными, сортировали убитых по отрядам. За частокол выкатили чадящую «Ниву», растащили поваленные бревна.
Появились суровые женщины в камуфляже дорожно-строительных работниц – синих телогрейках, стеганых ватных штанах, солдатских кирзовых сапогах. На головах были косынки или цигейковые ушанки цвета замшелой бронзы. Как и Данкевич, каждая носила оранжевую безрукавку. Женщины были вооружены молотками на длинных рукоятях, ломами и штыковыми лопатами. Вскоре они заполонили двор. С уборкой не помогали, только наблюдали или, лучше сказать, надзирали.
В действиях штурмовиков сквозила нервозность. Они торопились, тихо переругивались между собой. Чувствовалось, все совершается с тревожной оглядкой на каменные лица работниц. Наконец, во двор заволокли компрессор, тяжелый и громоздкий, точно броневик. На нашем самодельном столе расставили коробки – усилитель и портативный проигрыватель.
Люди разбились по отрядам и выстроились у сельсовета, словно для военного смотра. Воцарилась какая-то немая торжественность. Баба в безрукавке опустила стрелу звукоснимателя на диск. Из репродукторов с примесью кипящего на сковороде масла заиграл «Марш энтузиастов»:
В буднях великих строек,
В веселом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых!
Во двор через расчищенную брешь в частоколе вступала старуха. Она опиралась на палку, но было видно, что вспомогательная опора нужна ей только как атрибут возраста. Шла старуха легко, с величавым благородством прямоходящей рептилии, древнего человекоподобного завра. Маленькую голову обрамлял серебристый пух, тщательно уложенный в прическу. На морщинистом безгубом лице, покрытом пигментной чешуей, выделялись внимательно-неподвижные, выпуклые и тусклые, точно нарисованные на скорлупе, глаза. Острые нос и подбородок вместе создавали ощущение разверстого черепашьего клюва. Морщинистый, мягкий, как у игуаны, зоб уходил под кружевной белоснежный воротник блузы. Остальная одежда была черной – строгий твидовый пиджак, длинная юбка, туфли. Локтем она прижимала к боку старомодный кожаный ридикюль с крупной застежкой в виде шариков.