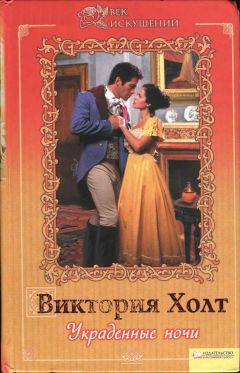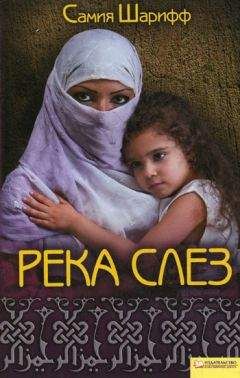Елена Катишонок - Свет в окне
А ведь рука не мозоль.
Лиза видела, каким рассеянным, почти отрешенным становилось иногда лицо хозяйки, но удивляться было нечему: два инвалида в доме, муж на войне.
С фройляйн Кларой стало труднее: приступы истерии участились. В «хорошие» дни она выходила в сад или на террасу; когда наступали «плохие», не покидала своих комнат. При открытой двери было видно, как она стоит подолгу у окна, опираясь на палку, с подергивающейся головой; потом бессильно и тяжело опускается в кресло, палка глухо стукает об пол. Припадки начинались внезапно с громкого, визгливого смеха, который вдруг сменялся сильной рвотой; посылали за доктором. Дом замирал, потому что на смену рвоте приходили рыданья – бурные, отчаянные. Затем наступала апатия и головная боль, которая могла длиться по двое-трое суток.
«Никакая это не хворь, – говорила Катерина. – Замуж ей надо, вот и вся недолга. А кто же калеку возьмет? Вот и блажит».
Меньше всех беспокойства доставлял отец фрау Штюбе. Лиза видела его очень редко, и то мельком: он занимал отдельное крыло дома с отдельным же входом.
Лейтенант Фридхельм Штюбе много времени проводил в саду, упражняясь в стрельбе. С этой целью для него поставили высокий дощатый щит. Первое время Лиза вздрагивала от выстрелов, потом перестала их замечать. Труднее было не замечать искусственную руку молодого хозяина. Наверное, это была восхитительная в своем роде вещь, и те, кто ее создал, немало потрудились над сложной комбинацией стальных шарниров, кожи и чего-то еще, что должно было дать обладателю компенсацию потери.
Фридхельм заново учился стрелять. Правильнее было бы сказать, что он обучал протез искусству стрельбы. Он поднимал тяжелое скрипучее сооружение левой рукой, долго держал на весу, но затянутый в перчатку искусственный палец оставался искусственным пальцем и на курок нажимать не мог. Мокрый от пота и бессильного бешенства, с мокрыми волосами, лейтенант яростно расстреливал обойму левой рукой – в небо, в щит, в землю – и уходил к себе.
…Из Лизиного повествования могло сложиться впечатление, что жизнь уехавших в Германию – по своей воле или угнанных – текла в относительном благополучии, словно не было издевательств, побоев, зверств; так ли безбурно прошли эти несколько лет, как ровно подходил к концу ее рассказ?
Судьба уберегла ее в тот момент, когда немец возмутился безрассудным расточительством рабочей силы – и продолжала беречь впоследствии, ибо все меряется в сравнении. Мыть и скрести каждый день чужой дом намного труднее, чем расфасовывать в аптеке порошки, но неизмеримо легче, чем грузить цемент и всю ночь выкашливать его. Судьба уберегла Лизу, а Лиза, в свою очередь, берегла сестру: рассказать без купюр все пережитое было невозможно. Например, рассуждение о «наших», которых неистово ждала ее незадачливая товарка, было опущено, осталось в одной из пауз, что только естественно: можно ли поделиться событиями двадцатилетней давности, не помолчав там, где душит отчаяние или перехватывает горло так, что только глоток чая – остывшего, всеми позабытого – может помочь?
Пересказ, иногда независимо от воли участника событий, бывает осложнен более поздним осознанием происшедшего, новым его постижением, в результате чего у каждого слушателя возникает свое представление об описываемых событиях. Проще говоря, пересказ – это разогретый обед двух– или трехдневной давности – слегка пригоревший, лишившийся оригинального аромата, хотя все еще вкусный и сытный.
Да, война осталась в документах – например, в кинохронике. Кинохроника правдива, она запечатлела непрерывную цепочку мгновений… в течение часа, и даже эта часовой продолжительности кинохроника лжет: сколько кадров из нее вырезано, прежде чем ленту выпускают на экран? С живым рассказом происходит то же самое: что сохранит память, то захочет скрыть сердце. И даже то, что рвалось наружу, нужнее было утаить или пропустить через фильтр рассудка: так было бы спокойней и безопасней для сестры.
Такой получилась история Лизы, и не случайно последний период был описан более сжато и скупо, чтобы не сказать – скомкан.
С приближением конца войны жизнь скудела. Молока, которым иногда забеливали похлебку для работников, больше не было – один стакан в день подавали фройляйн Кларе. Катя рассказала, что всех коров куда-то забрали, осталась одна. Масло пропало давно, был только маргарин. Сократился «рацион», что сказалось на тех, кто получал продукты по карточкам, то есть на хозяевах, потому что работникам карточек не полагалось. Нужно было ездить в город и получать продукты, выстаивая длинные очереди. Фрау Штюбе все чаще брала с собой Лизу, веля надевать на комбинезон кофту, чтобы не было видно знака «OST». В кофте или без кофты, Лиза к тому времени уже превратилась в Лизхен (это тоже было ею «вырезано» из рассказа). В очередях никто не рассуждал о великой Германии – люди стояли в угрюмом молчании, редко прерываемом скупыми репликами.
Фридхельм так и не научил искусственную руку стрелять, но через какое-то время получил новое предписание и уехал. В доме остались хозяйка с дочерью и старик.
Для Лизы работы на кухне стало меньше, стирка тоже сократилась в объеме; что уж говорить о Катерине. Она тоже ждала прихода «наших», но совсем иначе, чем Яся: ждала со страхом. Назад, то есть опять в колхоз, не хотела и мечтала остаться – если не у фрау Штюбе, то в другом хозяйстве, при скотине. Обмолвилась – и посмотрела на Лизу испуганно, прижав ладонь ко рту.
Лиза прислушивалась к сводкам вермахта по радио – наверху было слышно. Ее немецкого хватало для обихода, но быструю отрывистую речь, доносящуюся из приемника, различала труднее, «вылавливая» в первую очередь названия городов и стран. Красная Армия продвигалась по Европе. Лиза ловила куски разговоров в очереди – что-то удавалось извлечь. Смысл был тот же: русские идут, идут на Берлин; но не только русские – к Берлину рвутся американцы и англичане.
Слова, немыслимые год назад.
Слова, которые вот-вот – ни у кого уже не оставалось сомнений – станут реальностью. Самым лучшим доводом стало исчезновение продуктов.
Еще прежде продуктов исчезли мужчины. Оставшиеся – старики, за исключением самых больных и дряхлых, и подростки – тоже надели форму. На тех и других форма сидела нелепо, словно с чужого плеча; скорее всего, она и была чужой, уже побывавшей в окопах.
Чей-то голос в очереди твердил о «наших подкреплениях», которые должны остановить «вторжение», но Лизу поразило слово «наши».
И здесь – «наши»…
На обратном пути из города фрау Штюбе рассказала, что Фридхельм теперь руководит боевой подготовкой фольксштурмовцев, «вот этих детей – это же дети, дети!» Это была преступная расточительность, которой немка понять не могла. «Они – дети!» – повторяла снова и снова.